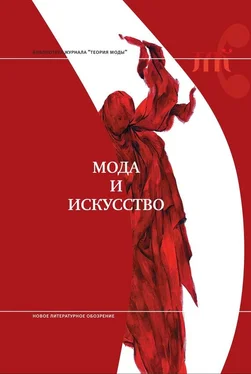Теперь вернемся к нашему первоначальному вопросу о значении художественного маскарада в период 1830–1840-х годов. Вопреки очевидному, привычка облачаться в эпатажные наряды, позаимствованные из исторического прошлого, не подразумевала прямого отрицания коммерческой культуры. Действительно, массовое культурное производство, превращавшее искусство и литературу в легко потребляемый товар, который можно было купить и продать на рынке, действительно было для художников угрозой. Однако их реакция на эту угрозу состояла не в пренебрежении и сопротивлении, а в творчестве и адаптации. Экзотические костюмы были частью более или менее осознанной стратегии, направленной на создание места для искусства в мире коммерческого производства. Ряжение и неизбежно связанная с этим жестом публичность оказались мощным оружием в борьбе художников с рынком.
Примечательно, что самый известный скандал 1830-х годов вокруг художественного маскарада касался проблемы эстетических ценностей, а не протеста против коммерческой культуры. Событие, известное как «битва за „Эрнани”», произошло в 1830 году, и некоторые его подробности заслуживают внимания, поскольку оно представляло собой первый случай, когда костюмы использовались сознательно для достижения идеологических и культурных целей. Битва за «Эрнани» представляла собой детально продуманный и поставленный протест с участием сотен молодых студентов-художников, поэтов и интеллектуалов из Латинского квартала, собравшихся защищать спорный спектакль Виктора Гюго от порицания классицистами и буржуазным истеблишментом. Средневековые костюмы служили молодым сторонникам Гюго реквизитом для этого коллективного действа, призванного защитить романтические ценности и свободу индивидуального самовыражения.
Костюмы играли здесь настолько значимую символическую роль, что почти все последующие повествователи выделяли их как главную особенность. По воспоминаниям Готье, молодые художники приложили максимум усилий, чтобы придумать «соответствующий туалет, костюм, достаточно пышный и причудливый, чтобы почтить мастера, школу и пьесу». Защитники будущего, пояснял он, гордились тем, что не похожи на нотариусов, и брали пример с героев картин эпохи Возрождения, романтических драм и готических романов. Даже тем, кому были не по карману атлас, бархат и форменный галун, необходимые для воссоздания образов в духе Рубенса или Веласкеса, удавалось красочно выглядеть в своих самодельных костюмах [338]. Ошеломленный Виктор Гюго, описывая своих сторонников, собравшихся у театра в вечер премьеры «Эрнани», также упоминал, что экстравагантные наряды использовались целенаправленно, чтобы шокировать конформистскую консервативную публику. «Начиная с часу дня, – вспоминал он, – многочисленные прохожие на улице Ришелье могли видеть все увеличивающуюся толпу диких и странных персонажей, бородатых, длинноволосых, одетых во все возможные наряды, кроме тех, которые в то время были в моде. На них были матросские бушлаты, испанские плащи, жилеты а ля Робеспьер, береты в стиле Генриха III, на головах и на плечах у них красовались предметы гардероба всех столетий и стран, и это в центре Парижа среди бела дня. Проходившие мимо обыватели замирали, как вкопанные, окаменев от негодования. Самое возмутительное зрелище представлял собой г-н Теофиль Готье, в алом жилете, с густыми длинными волосами, ниспадающими на спину» [339].
Как свидетельствуют эти рассказы, молодые художники использовали костюмы не только для того, чтобы продемонстрировать свои симпатии к романтизму, но также для того, чтобы перечертить заново культурные границы и создать новые коллективные идентичности. Это имело и серьезные культурные и идеологические последствия. Возможно, этим объясняется приподнятый тон участников событий, склонных несколько преувеличивать значение манифестации перед премьерой «Эрнани». В тот вечер, вспоминал Готье, совершилось «величайшее событие века, явление свободной, молодой и новой мысли на обломках прежнего одряхлевшего порядка». Это была, как он писал в другом месте, борьба «молодости с дряхлостью, длинных волос с лысинами, энтузиазма с рутиной, будущего с прошлым» [340].
В этом описании в зачаточной форме заключается идеология богемы, комплекс представлений об особом специфическом образе жизни художников и творческих людей. Неслучайно сам термин «художник» именно в то время приобрел расширительное значение и начал обозначать не только живописца или графика, но и представителя любой творческой профессии. Человек искусства впервые начал ассоциироваться не только со своими произведениями, но и с определенным образом жизни и внешним обликом. Арсен Гуссе, входивший в тесный круг общения Готье и бывший близким другом Бодлера, одним из первых определил это новое представление о художнике через понятие богемы: «Отличительной чертой нашего богемного существования был открытый бунт против любых предрассудков, я бы даже сказал – против любых законов. Мы жили будто за стенами крепости, откуда совершали дерзкие вылазки, высмеивая все вокруг» [341].
Читать дальше