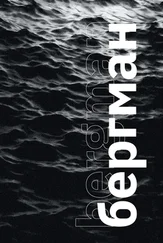Эти детали поддаются декодированию с точки зрения семиотики, как и любые другие, однако для меня в моде первоочередной важностью обладают чувства, а не знаки – хотя, безусловно, чувства сами являются знаками. Считать их сообщение немного сложнее, особенно если верны слова Маркса о том, что каждое из них концентрирует в себе всю мировую историю. (По правде сказать, рассуждения Маркса о чувствах – своего рода предостережение, которым жестоко пренебрегли в процессе историзации.) Пока мы наверстываем историю, вот что я вижу: в моде первичны тактильные ощущения, не важно, носим мы костюм или смотрим на него, значимо его воздействие на органы чувств, его интуитивно постигаемый смысл, эмоциональность и такт, которые подчиняют себе или заставляют отвести взгляд. Качества могут варьироваться, но моя симпатия к платью зарождается на более базовом уровне, где эмоциональное материально, или, в случае если у меня с ним связана история, наоборот: на уровне материи, вещества, хрупкого ощущения, которое оно оставляет на коже, и именно вследствие этого – зрительного удивления, которое в предельной концентрации может остановить ваш взгляд. Возвращаясь к позиции наблюдателя (поскольку я вряд ли могу сам привлечь чей-нибудь взгляд), замечу, что любая попытка осмысления этого опыта вызывает множество вопросов: прежде всего, как навязываемые конструкции влияют на выбор того или иного образа в современных условиях мнимого разнообразия, а также почему определенный образ предпочитали ранее, когда, казалось бы, возможности выбора были существенно ограничены. У меня нет и тени сомнения, что все это осложнено системой моды, коммодификацией и политической экономией знаков – хотя всегда будут виться тени и двоиться отражения, не вписывающиеся в систему.
Индустрия моды – это мир больших денег; костюм, через отчуждение продукта труда, превращается в фетиш. Хотя это стало секретом полишинеля в наши дни, это также было известно, скажем, во времена развития яковианской драмы, которая продолжает историческую традицию высмеивания общественной морали вообще. Что касается большой традиции критики моды, то она была временами суровой на театре, даже несмотря на то что, например, в конце XIX века театр подспудно сотрудничал с модой, рекламируя модные ателье через костюмы (практика, вызывавшая протесты английских суфражисток). Временами моду критиковали от лица женщин; иногда, напротив, женщину и моду критиковали вместе, и иногда критика шла с театральных подмостков – в том случае, когда театр сам не становился объектом критики. Характерно, что на протяжении истории критика моды была зачастую неотделима от критики женщин, а та, в свою очередь, неотделима от критики театра, так что временами (даже если ситуация инвертировалась и критики сами становились объектом критики) могло показаться, что мода, женщина и театр – взаимозаменяемые явления, агенты одной и той же силы. То же самое можно сказать о моде и модернизме, хотя в этом случае, когда театр был неразборчив по части перформативности, значительная часть критических высказываний исходила от женщин.
Тема, затронутая выше, тесно связана с проблемой размывания границ между модой и театральностью, иллюзией и видимостью, а также с другими вопросами, занимающими феминистскую мысль и квир-теорию, – например, вопросами идентичности и имитации, театрализации гендера, переодевания в одежду противоположного пола и различной антимоды (и ее аналогов в антитеатре). Помимо того что в проблемном поле моды пересекаются распространенные теоретические вопросы субъективности, телесности, дихотомии природы и культуры, дихотомии высокого и низкого в самой культуре, в нем также находятся вопросы вкуса, стиля, статуса, в том числе статуса эстетического объекта. И все же в этом пересечении, при относительно полном торжестве антиэстетики, остается место для красоты – и не только в глазах смотрящего. Там, где действуют ее законы, возникает вопрос, или по меньшей мере тревожное противоречие, касающееся эфемерной сути моды, ее формирующего принципа новизны: мода, с одной стороны являющаяся базисом постмодерна или его вотчиной, в то же время сохраняет культурную логику позднего модернизма, наиболее активно поддерживавшего традицию новаторства.
Какие бы различия ни были однажды проведены и какой бы ни была сегодняшняя повестка, не она, как я уже говорил, в первую очередь привлекла меня в моде, но чувственная сущность вещи, которая – подобно архитектоничным одеждам Рей Кавакубо или подрезанным деконструкциям Мартина Маржела – также была парадоксальным или провокационным воплощением идеи. Именно это и было для меня важно в театральном костюме. Когда Кавакубо впервые выпустила довольно отталкивающие наряды с выпуклостями и шишками на плечах или животе, напоминающими наросты или мутации, мы трактовали ее как своего рода остроумную гинекологическую травестию, как будто в этом специфическом сплетении нитей просматривалось нечто растянутое и жилистое. Но, говоря о моде, я бы прежде всего описывал ее как чувственность, как эффект, оказываемый на тело, или объяснял при помощи формулировки, придуманной для метафизической поэзии, которая способна эстетизировать череп или (читается как ценник в витрине Tiffany) «браслет волос вокруг кости» [321]– чувственное постижение мысли [322].
Читать дальше