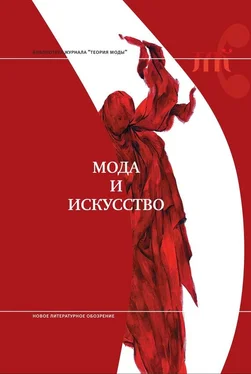Если очарование модой предшествует периоду моей жизни, проведенному в театре, то на протяжении многих лет работы в нем ничто я не любил больше, чем придумывать идеи для костюмов и, когда появлялись первые эскизы, перебирать образцы ткани, затем наблюдать, как кроят и шьют, а в раже последних примерок иногда испытывать ощущение (возможно, мнимое) чуда идеальной посадки, как если бы само платье обретало плоть. Так было в одной из первых моих постановок с выцветшими парижскими платьями Раневской, переживавшей тщетность возвращения, сонно кружащейся в печальном танце «Вишневого сада», или позже, с необычным элегантным платьем с низким вырезом на спине из постановки загадочной драмы Дюрренматта «Свадьба мистера Миссисипи». Эти наряды, при всем своем шике, были вполне традиционными, так же как высококлассные костюмы яппи (мы начинали называть их дизайнерской одеждой), созданные, чтобы быть приобретенными для моей собственной пьесы, поставленной в начале 1960-х годов на Телеграф-Хилл в Сан-Франциско.
Существовали также – я еще вернусь к этому в свое время – действа в ином роде, которые едва ли можно было оформить при помощи готового платья. То же самое можно сказать и о работах моей группы KRAKEN, преимущественно периода 1970-х годов, и удивительно, как нам удавалось делать то, что сегодня легко выполнимо при помощи высокотехнологичных тканей или варения ткани, а компьютерная графика, возможно, пригодилась бы нам в постановке «Орестеи», концептуально трансформированной в «Семена Атрея» (Seeds of Atreus), где костюмы практически не существовали, точнее, имели слишком неопределенный вид, пока их не надевали. Если бы я просто бросил их на стол, их можно было бы принять за рваные тряпки. Однако в процессе носки они превращались в постоянно трансформирующиеся абстракции из эластичной ткани, с завитками и зияющими дырами, методом проб и ошибок принимающими аэродинамическую форму вокруг тела в процессе движения столь напряженного, иступленного, с элементами сложного сальто. Когда плоть обнажалась, возникало впечатление, что на ее поверхности проступают нервы (на самом деле рисунок был перенесен с анатомической таблицы), а геометрия обрамлявшего ее костюма, с распахивающимися и закрывающимися вырезами, полностью определялась почти что акробатической виртуозностью движений тела во время представления.
Элементы костюма могли принадлежать традициям Оскара Шлеммера в период работы в Баухаузе или плоскостных тканей японского театра Но, также оживавших лишь в процессе представления, – но вместе с тем они предвосхитили скульптурные костюмы Рей Кавакубо для Comme des Garçons и модели от Иссея Мияке, объем которых регулировался владельцем. Принципиальное отличие состояло в том, что для демонстрации совершенства потенциальных форм костюмов из «Семян Атрея» требовалось напряжение мышц и эстетическое усилие. На то имелись причины теоретического толка, о которых я сейчас не буду рассказывать, но актеру приходилось попотеть, чтобы поднять руку над головой (рисунок нервной системы в этом случае стекал по телу, превращаясь в абстракцию в духе Кандинского), а Клитемнестра появлялась на сцене в цилиндрическом, сильно зауженном книзу наподобие юбки хоббл платье из такой тугой ткани, что каждое движение требовало усилия, как походка китаянки, чьи ноги деформированы бинтами с рождения.
С этим жестким минимализмом контрастировала другая часть моей театральной практики, заключавшаяся в неутолимом влечении к причудливым, эксцентричным, экстравагантным платьям, предвосхитившим некоторые тенденции современной моды, в том числе в квир-теории и культурной критике. Диапазон нарядов впечатлял, или был впечатляюще абсурден, и простирался от костюмов персонажей Беккета в стиле, который позднее назвали «гранжем», до монарших одежд Короля Лира (созданных для нашей постановки в Мастерской актера в Сан-Франциско из мириад раскрашенных вручную и выложенных слоями, как на тотемах, куриных перьев) или сластолюбивой избыточности «Вольпоне» Джонсона, в котором действуют карлик, евнух, гермафродит, претендующая на звание модницы Леди Политик и целый полк мертвенных глупцов – их дефиле было бы более чем уместно в рамках показа Вивьен Вествуд с ее новым историзмом или барочного Кристиана Лакруа. Предисловием к такому шоу мог бы послужить религиозный гардероб для пьесы Жана Жене «Балкон», где мадам-трансвестит наставляла изображавшую монахиню шлюху в юбке с разрезом (которая не задумывалась Жене, но могла быть спроектирована Вествуд или Тьери Мюглером) и где стояли на котурнах, как модели на показе, аллегорические воплощения (Епископ, Судья и Генерал) бесконечно воспроизводящейся и беспредельно рассеивающейся власти.
Читать дальше