В России начало этому было положено при Петре I [404]. В Летнем саду «есть длинная галерея, или зал, где царь ежедневно бывает с 11 до 12 часов дня; туда всякий имеет свободный доступ, и царь принимает прошения от своих подданных всех сословий», записал П.Г. Брюс [405]. В 1735 г. К.Р. Бёрк хвалил расположенный там же екатерининский сад, отметив однако, что «горожане весьма редко могут [там] повеселиться. В дни Комедии, когда действуют также водометы, некоторому количеству простого народа дозволяют войти в сад; в куртаги – лишь обычным придворным лицам, а в остальное время – никому, так как императрица (Анна Иоанновна) желает гулять со своими наперсниками в тишине» [406]. С 1722 г. по указанию Петра I доступными стали сады московского Лефортова [407]. Анненгоф, преобразованный «в улучшенном вкусе», был открыт для публики Екатериной II [408]. «Галерея или амфитеатр для общественных гуляний», украшенная надписью на русском, французском и немецком языках «Для всех честных людей», существовала в 1780-е гг. в Петербурге на Каменном острове. Общедоступными были так называемые воксалы , где устраивались концерты, балы.
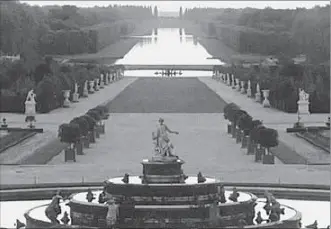
Версаль. Вид на Большой канал от Фонтана Латоны
Для развлечения публики владельцы предоставляли некоторые усадебные сады, одни для всех, другие – для избранных. К числу наиболее примечательных садов принадлежала Красная мыза А.А. Нарышкина под Петербургом. У видевших ее вырывался возглас «Ба-Ба», так ее и называли. И.Г. Георги среди прочего сообщал о ней:
«Сад… открыт в летнее время по воскресениям для почетной публики; гостеприимчивый знатный владелец оного приглашает даже к прогулкам в оном и увеселяет приезжающих туда музыкою, танцеванием, качелями, кегельною и другими играми; в сии дни раздается также большое количество прохлаждающих напитков и лакомств. В прекрасные летние дни многочисленные дорожки в саду прогуливающимися всех классов, а большая площадь перед садом экипажами, так сказать, покрыты».
Карамзин, полагая, что «в больших городах весьма нужны народные гульбища», в таких словах мечтал о реализации этой идеи:
«…если бы можно было сломать… Кремлевскую стену, гору к соборам устлать дерном, разбросать по ней кусточки и цветники, сделать уступы и крыльцы для всхода, соединить таким образом Кремль с набережною и внизу насадить аллею». Тогда можно было бы видеть вдали Воробьевы горы, леса, поля… Вот картина! Вот гульбище, достойное великого народа!»
Популяризации городских садов способствовала пятитомная «Теория садового искусства» К.К.Л. Гиршфельда. Любимой идеей этого автора был Volksgarten , народный сад. Его он предназначал не только для отдыха, но и для учения – каждый должен найти тут «eine gute Lehre». Здесь место не дорогим произведениям искусства, а зданиям, украшенным картинами из национальной истории, памятникам важнейших событий, надписям, напоминающим о деятельности патриотов [409]. Спустя несколько лет Гиршфельд констатировал, что в Европе нелегко найти город, который бы «не заключал в себе или не имел в соседстве места для публичных прогулок» [410]. Городские сады, маня людей на природу, должны были, по его мнению, отвлекать их как от дорогостоящего, так и от «неблагородного» времяпрепровождения. О желании наполнить садами все свободное место в городе свидетельствовало сочинение «Соображения о городских садах, или Сведения о возможностях использовать пространство за и между зданиями» [411]. В данном случае речь шла о небольших садах, которые особенно культивировались в годы бидермейера (с. 189–196).
В XIX в. активное развитие городских садов связывалось как с урбанистикой, так и широкими социальными программами. Теперь общедоступные сады появлялись не только благодаря щедрости частных владельцев, но и по инициативе городских властей и создавались в основном на месте средневековых городских стен, которые сносились, чтобы не мешать застройке и жизни городов. Так произошло в Кракове, где были разбиты бульвары (Планты. 1818–1822). В Москве первый бульвар, Тверской, на месте укреплений XVI в. был устроен в 1796 г. В 1820-е гг. образовалось Садовое кольцо. Во второй половине 1860-х гг. в Вене обустраивался Ринг. Подобные садовые композиции реализовалось и в других городах Европы и Америки. Впоследствии Маяковский напишет о Чикаго, что там «самая лучшая система бульваров во всем земном шаре – ходи по бульварам, обходи Чикаго, не выйдя ни на какую улицу» («Моё открытие Америки». 1925–1926). Однако и в Варшаве, где не было кольцевых бульваров, до сих пор можно проделать «садовый путь» от Королевского замка до Лазенок вдоль возникшей в XVIII в. так называемой Станиславовской оси, по которой располагались многие наиболее известные варшавские сады того времени.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

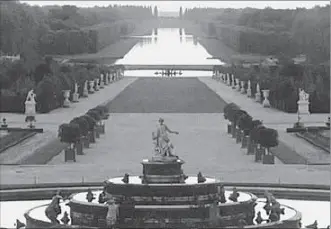




![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)






