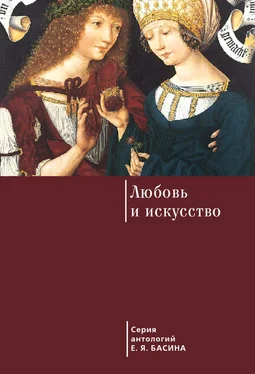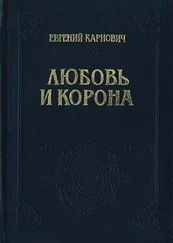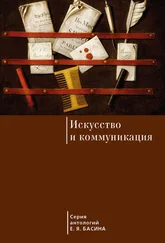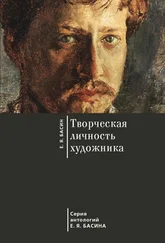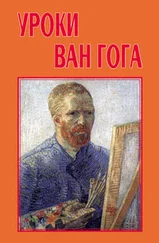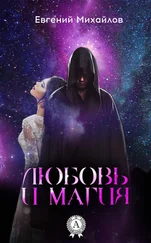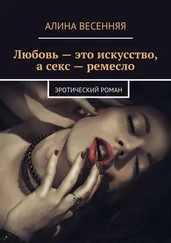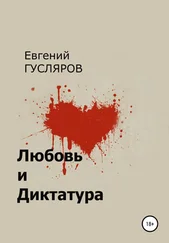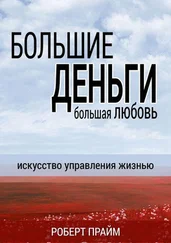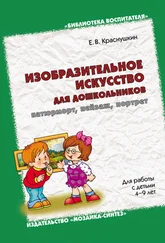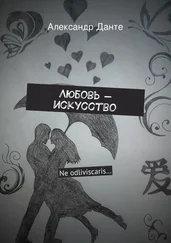Вернемся к Пастернаку. Утверждение простоты и безусловности любви он продолжает мыслью о ее фундаментальности: «… как нечто краеугольное и первичное, любовь равнозначительна творчеству. Она не меньше его, и ее показания не нуждаются в его обработке. Самое высшее, о чем может мечтать искусство, – это подслушать ее собственный голос, ее всегда новый и небывалый язык. Благозвучие ей ни к чему. В ее душе живут истины, а не звуки» [59]. Любовь для Пастернака – и отправная точка искусства, и его цель. Отсюда один шаг до риторического вопроса: кто же тогда художник, если не влюбленный? Райнер Мария Рильке, доказывающий в эссе «Завещание» эту аналогию, выявил на первый взгляд спорные и смелые, но глубоко логичные принципы взаимодействия любви и творчества в составе сознания творческой личности.
«Моя жизнь – неповторимая форма моей любви» [60], формулирует поэт. В то же время настоящего художника без остатка должна забрать творческая работа. Именно она является его сущностью. Только так можно обрести полноту личного бытия, стать «мастерски брошенным копьем», когда «незримые законы выхватывают тебя из руки метателя и устремляются вместе с тобой к цели. И может ли существовать что – то надежнее, чем твой полет?» [61]Между тем скрупулезный самоанализ приводит Рильке к новой неожиданной формуле: «работа – это и есть моя любовь» [62]. Мыслитель доводит эту идею до логического максимума, практически до «первой заповеди» творческой личности: «Мой труд сам по себе – бесконечно более любовь, нежели то, что один человек может затронуть в другом. В моем труде – вся полнота любви» [63]. (Отмечу при этом, что «Завещание» написано в эпистолярном жанре, в форме любовного письма (!) к реальной женщине, возлюбленной поэта. Налицо факт глубокого несовпадения бытийной и творческой жизни [64]).
Показательно, что «творческая любовь» для Рильке в первую очередь не форма претворенного Эроса, а нечто качественно более ценное, чем любовное переживание, с которым мы можем иметь счастье столкнуться в режиме повседневного бытия. Мало того, чувственная, «человеческая» любовь для поэта – лишь «зачаточная и малоплодотворная разновидность творческого опыта» [65], его «капризная» и «немощная» дискредитация, особенно «если мерить по высокому счету подлинных достижений» [66]. Быть художником – значит быть влюбленным в высшем смысле, реализовывать любовь не как форму художественного преодоления психофизиологического переживания, но как одухотворение одного из онтологических оснований человека . Без этого не произойдет творческого взрыва, порох не вспыхнет, копье не полетит.
Искусство, как и любовь, требует художника всего и сразу. В противном случае – это не настоящая любовь и не полнокровное творчество, а их суррогаты. «Художественное произведение, возникая в душе художника органически, возбуждает (и должно возбуждать) к себе такую любовь художника, что он не может оторваться от картины до тех пор, пока не употребит своих сил для ее исполнения» [67], справедливо замечал Иван Крамской. Хочется акцентировать органический, естественный характер этого взаимодействия. О нем убедительно высказывался и Константин Станиславский в письме режиссеру И. М. Лапицкому: «В моем и в Вашем положении стоит идти на сцену, когда убедишься в непоборимой любви, к ней, доходящей до страсти. В этом положении не рассуждаешь: есть талант или нет, а исполняешь свою природную потребность [68]». В свою очередь, перенося акцент с творчества на любовь, прав оказывается и Сергей Юткевич: «…любовь тогда становится благотворной и счастливой, когда она, как в творческом акте, мобилизует все интеллектуальные и душевные силы человека» [69].
Ценность и уникальность «онтологической ситуации», в которой протекает вдохновенный творческий акт, коренится во взаимоналожении, растворении в одном общем состоянии: 1) острого экзистенциального чувства жизни (окрыляющее ощущение «Я – есть») и 2) переживания любви 3) при полном погружении в работу.
Важно при этом отметить общее для многих художников эмпатическое состояние погруженности в объект , желание слиться с ним, буквально стать им. Внимания заслуживают следующие свидетельства мастеров искусства:
«Художник должен заинтересоваться чем-нибудь, каким-нибудь явлением или предметом, в конце концов, можно сказать – влюбиться в него….. метод искусства дает художнику и углубление в вещь, и любовь к ней» [70], убеждает Владимир Фаворский.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу