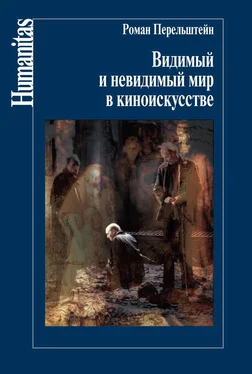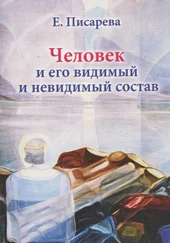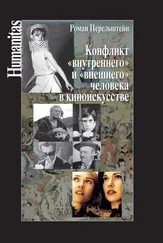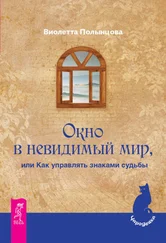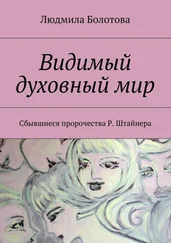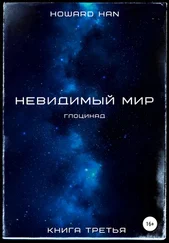Сумерки, как и туман, размывают границы предметов, а вместе с границами предметов, по крайней мере в сознании европейца, размываются и границы идей этих предметов, смешиваются, если угодно, их имена. Когда китайский философ Чжуанцзы говорит, что хотел бы поговорить с человеком, позабывшим слова, он предлагает отказаться от тех плотин и берегов, в которые зачастую превращаются слова, вместо того чтобы стать символами проточности бытия, проводниками в безбрежность. «В письмах к Ёда Мидзогути призывал сценариста намеренно обеднять язык своих диалогов, – писала кинокритик Фрида Графе. – Суть кинодиалога в том, напоминал режиссер, чтобы заставить и актера, и зрителя забыть о языке» [108].
Чтобы понять, почему модернистские веяния в западном искусстве конца 1950-х годов имели столь много общего с эстетикой Страны восходящего солнца, да и всего дальневосточного региона, рассмотрим, в чем состоит разность и общность культурных парадигм христианской и буддийской цивилизаций. А также поразмышляем о тенденции их сближения.
Мидзогути особым образом, отличным от традиций западного и отечественного кинематографа, создает в своих картинах духовную реальность. Однако она зиждется на тех же самых основаниях, что и любой подлинно духовный опыт. От различий формального характера мы перейдем к сходству, затем снова поведем разговор о различиях, и уже на новом витке анализа обнаружим сходство на уровне высших проявлений духовной жизни.
О присутствии «другого мира» в дальневосточном искусстве нам сообщают внешние оболочки единичных вещей, от которых не требуется соответствия неким безупречным формам, а требуется лишь их физическая протяженность, скрадываемая туманом или наплывом, выполняющим функцию тумана. Заметим, следуя одной из сквозных тем нашего исследования, что вещь словно бы оказывается на пороге видимого. Она одновременно и явлена, и скрыта. «Ясность перспективного куба» то и дело уступает место расплывчатым и плавным очертаниям пространства, которое стремится к истолкованию самого себя как «глубины сердца».
Подобное мы обнаруживаем и в иконописи. Г. Померанц пишет: «…такой замечательный знаток дальневосточной культуры, как Рэдженальд Орас Блакс, сопоставил дзенские пейзажи с византийской иконой. Сквозь резкие различия форм он чувствовал единый дух. То есть он чувствовал, что по уровню глубины – это родственные явления. В обоих случаях яркость бытия приглушена, и выделено глубинное, обычно скрытое» [109].
И снова вернемся к разговору о различиях двух типов духовности, которые восходят к разным культурным стереотипам.
Для японца, опирающегося на синтез нескольких духовно-религиозных традиций, среди которых доминируют буддизм и синтоизм, туман является символом изменения, превращения, развития. Жизнь пребывает в вечном движении, ее невозможно описать, удержать, как нельзя зажать в кулаке пар. Для европейца, чья интеллектуальная сфера сформировалась под влиянием идей Нового времени, туман является символом состояния, в котором совершаются ошибки и случаются недоразумения. А. Кушнер напишет: «Был туман. И в тумане / Наподобье загробных теней / В двух шагах от французов прошли англичане, / Не заметив чужих кораблей. / Нельсон нервничал: он проморгал Бонапарта…».
Европеец стремится разогнать туман и пролить яркий свет на ту или иную вещь. Европеец, и не только дитя века Просвещения, но и наследник средневековой культуры, стремится досмотреть вещь до ее эйдоса, выявить идею вещи. Японец же старается погрузить вещь в туман, сплотив с другими вещами, не мысля конкретной вещи вне потока всех вещей. Европеец стирает случайные (в онтологическом значении этого слова) черты, а японец любуется ими. Европеец стремится к воссозданию идеальных форм, лишь они для него прекрасны. Он подобен Пигмалиону, отсекающему все лишнее от бесформенной мраморной глыбы. Японец же заворожен быстротечной красотой вещей, в которых нет и не может быть ничего лишнего. И еще японец заворожен самим мгновением рождения формы, удержать которое так же невозможно, как сохранить равновесие в танце, одна фигура которого с запаздыванием, быть может, лишь на миг (момент рождения и смерти формы), переходит в другую. Под пером европейца Природа становится ученицей Искусства, но речь не идет о слепом подражании Природы своему просвещенному Наставнику. Речь идет лишь о стремлении творения уподобиться творящей силе. Под кистью японца Искусство становится учеником Природы. И опять же речь не идет о копировании природных форм, просто они не подверстываются под некую идеальную форму, выработанную сознанием, а запечатлеваются интуитивно. Буддолог Дайсэцу Судзуки сказал: «Если кисть художника движется сама по себе, рисунок тушью становится завершенной в самой себе реальностью, а не копией чего-то. И горы на рисунке столь же реальны, как реальна Фуздияма, и облака, ручьи, деревья, волны – все реально, так как дух художника побывал в этих линиях, точках, мазках» [110]. Похожую мысль высказал и сам Мидзогути, признавшись в одном из интервью, что «хорошие фильмы получаются не в результате сознательного решения, в вследствие внутренней страсти».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу