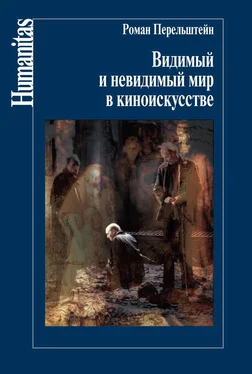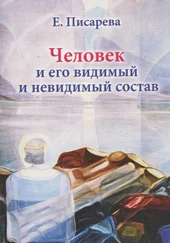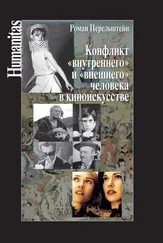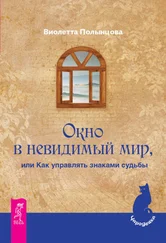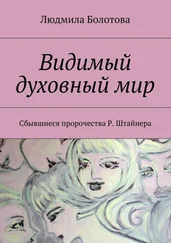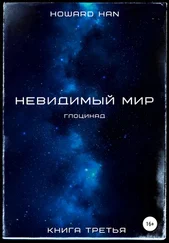Сценарист Юрий Арабов и режиссер Александр Сокуров в картине «Фауст» (2011) показывают, как далеко может зайти человек, утративший связь со своей собственной глубиной, со своей бездонностью, которая существует, скорее, не благодаря природе, а вопреки ей. Фауст подменяет эту бездонность уверенностью в самодостаточности естественного мира. Конфликт, разворачивающийся в душе сокуровского Фауста, имеет ярко выраженное метафизическое измерение и разрешается христианской антропологией. Последняя восходит к краеугольному камню библейского антропоцентризма – положению об образе и подобии Божием в человеке (Быт 1:26). Приведем ставшую уже хрестоматийной цитату из Блеза Паскаля: «Человек – всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся Вселенная: довольно дуновения ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила Вселенная, – человек все равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознает, что расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознает» [96]. Другими словами, природа не имеет памяти смертной, а человек имеет, значит, человек – это вовсе не часть природы, а вся природа и что-то еще или кто-то еще – кто-то, кого нельзя свести к миру природы. Поэтому-то человек создан не по образу и подобию природы, а по образу и подобию Того, Кто Сам творит природу, точно так же, как человек творит память смертную. И, находясь в общении со своей памятью с ее самыми глубинными и потаенными пластами, человек встречается лицом к лицу с жизнью. Отказав душе как искре Божьей в праве на существование, не сразу, но все-таки отказав, Фауст Арабова и Сокурова начинает мыслить себя созданным по образу и подобию природы. За первым открытием следует второе. Фауст непременно должен сразиться с природой, потому что чувствует свое тайное над нею превосходство. Теперь Фауста уже не остановить. Он перешагнет и через черта, если тот поставит свое существование в зависимость от Бога, пусть даже на Бога и ополчась. Потому что в существование Бога Фауст не верит.
На уровне сюжета коллизия эта решается своеобразно. Авторы фильма пытаются сорвать с Мефистофеля социальную маску человека, которую черт взял напрокат, а именно маску ростовщика. В этой связи представляется естественным проанализировать фильм и с позиций аналитической психологии Карла Юнга. В предисловии к опубликованному литературному сценарию Арабов говорит о том, что в его задачу входило показать, как человек, утративший веру в Бога, соблазняет самого черта. Дальше начинается область зрительских интерпретаций. Как же и чем человек соблазняет дьявола? Видимо, тем, что дает ростовщику некоторое поручение. И если заимодавец выполнит его, то тогда существо, скрывающееся под социальной маской ростовщика, и обнаружит свою истинную дьявольскую сущность. А состоит поручение в следующем: исполнить все сокровенные желания Фауста.
Однако не так-то просто вывести нечистую силу на чистую воду. Что если под социальной маской, которую Юнг именует Персоной, скрывается вовсе не дьявол во плоти, а все тот же человек с его темными сторонами, более или менее проявленными? И тогда непонятно, кто же такой Мефистофель – черт или человек? И еще более непонятно, кто тогда кого соблазняет – человек черта или, все же, по старинке, черт – человека. Трудно сказать, удалось ли Фаусту пробудить в ростовщике – черта. Что если Фауст замахнулся на нечто совершенно другое? Ведь одновременно Фауст пробуждает черта и в себе. Фауст так же срывает с себя социальную маску доктора, как с черта социальную маску процентщика. Иначе и быть не может, ведь Фауст и Мефистофель повязаны, их договор скреплен кровью.
Итак, в гётевском Фаусте, от которого автор сценария дистанцируется, враг рода человеческого искушает ученого мужа и преуспевает. Однако в финале Фауст раскаивается, дьявол посрамлен. А в фильме во всем разуверившийся доктор прозревает за социальным образом не очень, прямо скажем, приятного ему человека, исчадие ада, к помощи которого не прочь прибегнуть. Другими словами, доктор готов опереться на ад в самом себе, но при этом переложить моральную ответственность за свой выбор на ростовщика, за социальной маской которого скрывается черт. Не поэтому ли Фауст в финале картины и не раскаивается. Да, он расправляется с ростовщиком, забив его камнями, но только потому, что тот оказался лишь слабым подобием гордыни, лишь эхом бунта против Бога. Ростовщик – страдающий гордец, спесивец, испытывающий боль не только физическую, но и душевную. «Вечное одиночество… Холод космического пространства… И никаких надежд на спасение», – жалуется он Фаусту. Дьявол, страдающий от того, что он не способен на раскаяние, и страдающий так по-человечески, это уже и не дьявол вовсе. Так Фауст срывает с ростовщика еще одну маску. Может быть, ростовщик и черт, но не настоящий, и зло его какое-то картонное. Истинное же зло – оно собрано в сердце Фауста. Это он настоящий хозяин своей судьбы и Вселенной. И он покорит ее, чего бы это ему, а главное, всем остальным, ни стоило. Остальные – это мы. Расходный материал для социальных экспериментов. Причем материал, который нужно во чтобы то ни стало сделать счастливым. Хотя бы даже и насильственно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу