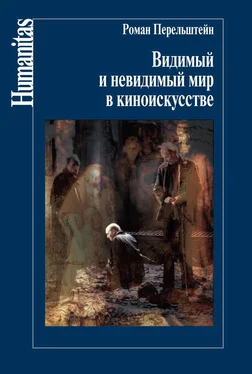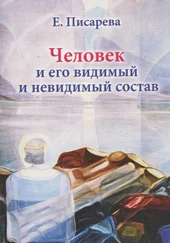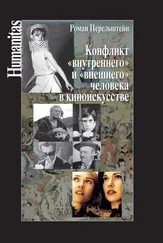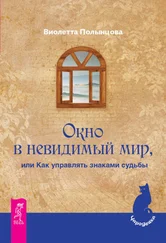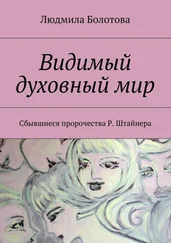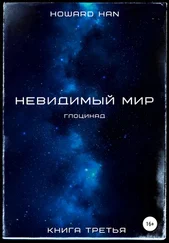Путь от Москвы до Саратова, который проделал Гуров в вагоне первого класса, режиссер опускает. Мы сразу оказываемся в номере провинциальной гостиницы. Это мир особый. На столе письменный прибор в виде всадника. У двери умывальник, тот самый, который склоняли по падежам гуровские дети. Умывальник стоит в позе существительного и с готовностью отвечает на вопрос «что?». Всадник, у которого, правда, отбита голова, приветствует постояльцев высоко поднятой шляпой.
Этой сцене предшествует сцена покупки билета. Гуров движется к окошку железнодорожной кассы. Вот тут-то в кадре и промелькнет носильщик с чемоданом на плече или, скажем по-другому: вместо головы на плечах носильщика будет покоиться чемодан. Чемодан замещает голову так же, как вещь замещает человека . Другими словами, мир чемоданов, циркуляров, падежей, железных дорог, так же как мир человека, опутанного этими циркулярами, падежами и дорогами, еще не обрел лица. На такую деталь-вещь, как чемодан , можно было бы и не обратить внимания, если бы не следующая сцена, начинающаяся крупным планом настольного «всадника», у которого отбита голова.
Итак, всадник приветствует постояльцев высоко поднятой шляпой.
Эту шляпу уже срывало с головы обывателя в Ялте, и обыватель гонялся за ней по набережной; эту шляпу элегантно швыряли за борт парохода и, что называется, дошвырялись: шляпа-то на месте, а вот головы уже нет.
Три раза в разных контекстах возникшая в кадре деталь не просто временно замещает целое, деталь становится эквивалентом целого. «Сперва покажи обычное, потом покажи, что в этом обычном необычного, потом доведи необычное до максимума» [95]. Принцип трехкратного развития конфликта полностью применим к детали.
Конфликт, который через развитие такой детали, как «шляпа», выстраивает Хейфиц, это конфликт между человеком и вещью . Первый акт конфликта – вещь пытается ускользнуть от человека: обыватель преследует шляпу; второй акт – человек пытается ускользнуть от вещи: шляпа за бортом; третий акт – ускользнувшей от человека вещью становится сам человек: шляпа, под которой человека уже нет. То есть все та же самая потеря индивидуальности, бегство от свободы, по Фромму. Нет во «всаднике» и чернил. Высохли. Написать Анне Сергеевне записку невозможно, да Гуров бы, наверное, и сам отказался от столь опасной затеи. «Всадник без головы» читает мысли Гурова. Еще одно подтверждение связи человека и вещи. Предметы, находящиеся в сговоре с героем, не столько одушевляются , как это происходит в литературе, сколько материализуются , обретают плоть, что для киноповествования гораздо важнее.
Подведем итог. Тайная жизнь Гурова только тогда становится подлинной жизнью, когда перестает носить внешний характер: интрижка, приключение – это еще не тайная жизнь. Тайная жизнь – всецела. Всецелость тайной жизни и интерпретируется нами как спонтанность. Явное же существование Гурова потому ему и постыло, что всё оно сводится к своим внешним проявлениям. Отсюда механистичность явной жизни, частью которой является и поверхностно тайная жизнь, в которой механистичности «по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному» еще больше.
Невероятно чутко на драму героя отзываются вещи. Опорожненная бутылка, оброненная перчатка, безголовый всадник с пустой чернильницей – улики среднеарифметичности человеческого существования. Падший, разлученный с Богом, со своей собственной глубиной человек, человек ограничивающий опыт спонтанности, не просто опустошает и выбрасывает вещи, но и отнимает у вещей имена, которые он им дал, когда любил и был любим. Мир падшего человека отражается как в зеркале в мире падших вещей. Падший человек опустошает и выбрасывает вещь точно так же, как он опустошает другого человека и избавляется от человека, по привычке продолжая видеть в нем вещь. Но вдруг эта дьявольская логика спотыкается о тайну жизни, о минуты и часы зарождения подлинного чувства. «Ты, знаешь, мы похожи с тобой на двух перелетных птиц. Их поймали и заставляют жить в отдельных клетках», – говорит Анна. И вскоре камера выхватывает Анну и Гурова, которых мы видим уже через гостиничное окно. Они там, в номере «Славянского базара», но каждый в своей оконной створке. Поперечины переплета дополняют образ клетки. Гуров и Анна о чем-то говорят, решают, как им жить дальше, и вот, видимо, это и есть кульминация фильма, Гуров бросается целовать руки Анны, ее голову, лицо, одним движением «ломая» свою и ее клетки. И так же как воскресают человеческие чувства после полного их забвения, воскресает, пройдя через метафорическую смерть, и видимый предметный мир, на языке которого разговаривает с нами кино.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу