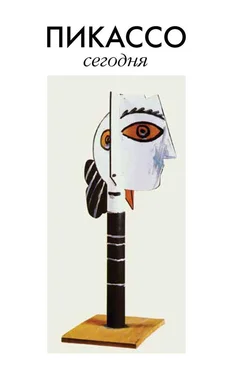В 1918 году статьи Бердяева и Булгакова были переизданы [354]. Естественно, в новой обстановке мрачные прогнозы, поводом для которых стало искусство Пикассо, могли восприниматься злободневно-политически потому, в частности, что футуристы, чьим «патроном» в общественном сознании продолжал оставаться художник, в это время ощутимо влияли на культурную политику новой власти [355].
Было бы натяжкой утверждать, что Бердяев буквально сопрягал русскую революцию и развитие современного искусства, хотя он и отмечал порой точки соприкосновения большевиков и футуристов [356]. Но очевидно, что в практически одновременно создававшихся работах развитие русской революции под знаком большевизма и ситуация в новейших художественных течениях описывалась философом как сходные процессы. Приведу несколько выразительных суждений из политической публицистики 1917 года и близких к ней по времени культурологических сочинений.
Журнал «Русская свобода» (1917): «Социализм есть лишь пассивная рефлексия на буржуазный мир… В нем нет творческой свободы… ничего противоположного духу буржуазности… Социализм не выдвинул до сих пор никаких ценностей, кроме ценностей материального… насыщения. Духовно же он живет ценностями, созданными “буржуазным” миром…»; Не новая жизнь раскрывается и расцветает (в русской революции. – И. Д .), а старая жизнь, окончательно распустившаяся, гниет» [357].
Сборник «Кризис искусства» (1918): «Футуризм по своему чувству жизни… лишь переходное состояние, более конец старого мира, чем начало нового… Они (футуристы. – И. Д. ) слишком рабски зависят от процессов разложения и распыления старой плоти мира… чтобы они в силах были творить новый мир… Они находятся более в погибающей материи, чем в освобождающемся духе»; «У Пикассо колеблется граница физических тел. Те же симптомы есть и у футуристов… Уже у импрессионистов начался какой-то разлагающий процесс. И это не от погружения в духовность, а от погружения в материальность происходит… Пикассо – не новое творчество: Он – конец старого» [358].
Таким образом, Бердяев соотносил революционный социализм в его русском варианте и новейшие художественные течения как явления, лишенные качественной новизны, но притязающие на нее, принадлежащие прошлому, но не будущему – явления, так или иначе связанные с косным материальным началом, но не имеющие духовной самостоятельности. В сущности, речь шла о различных воплощениях тяжкого кризиса – национально-государственного и культурного, но не о специфике художественного явления.
Наметившаяся в публицистике Бердяева аналогия не могла получить широкого развития и распространения в процессе послеоктябрьской России. Но можно предположить, что образ Пикассо, персонифицировавшего новое искусство, мог приобретать и более явную политическую окраску. Это наблюдение косвенно подтверждает значительно более позднее выступление Г. Федотова. В середине 1930-х годов он внятно произнес – и неизбежно огрубил – то, что у Бердяева лишь предощущалось: «Не подлежит сомнению, что мы живем в эпоху… гибели гуманистической культуры… Искусство не отражает этой гибели, оно ее организует и вдохновляет… И когда человек убит окончательно… из прессованных останков людей, горящих энтузиазмом, строится новое общество… из мертвых звуков – музыка Стравинского. Пикассо и Стравинский в духовном мире значат то же, что в социальном Ленин и Муссолини. Но зачинатели и пионеры – это они, а не политические вожди, которые делают последние выводы в самой последней, то есть низшей сфере деятельности» [359].
Это, впрочем, позиция эмигранта. В критике советской России влияние образов религиозных мыслителей сказывалось еще некоторое время в стилистике и интонации различных сочинений, посвященных современной живописи, например в очерке П. Перцова о Щукинском собрании [360]. Естественным итогом намеченной в статьях религиозных философов и околосимволистских литераторов концепции творчества Пикассо стало превращение его имени в своего рода «эмблему». Именно в таком качестве оно фигурирует у К. Вагинова, который по-своему интерпретировал шпенглеровскую оппозицию культуры и цивилизации, противопоставляя органическое эллинское язычество – косному христианству: «Радий есть христианство, братия мои. Паровоз есть христианство, братия мои. Пикассо есть христианство, братия мои» [361].
Таким образом, в начале 1920-х годов в России сосуществовали два Пикассо – реальный художник, чьи работы были хорошо известны по собранию Щукина, и отвлеченный символ. При этом даже в интерпретациях авангардистов, обращавших внимание прежде всего на живописные качества Пикассо, а не умозрительный смысл его творчества, имя художника все более явно приобретало свойства абстрактного знака. Дело в том, что во второй половине 1910-х годов, когда русский авангард подходил к наиболее смелым и своеобразным выводам, для отечественного зрителя искусство Пикассо оставалось практически тем же, что в 1914-м. Явление, развитие которого перестало ощущаться, закономерно превращалось в застывшее отвлеченное понятие. К началу 1920-х годов сложившийся в России образ Пикассо утратил упругость, многосложность живого явления и потому, когда стали известны новые работы художника, «сломался».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу