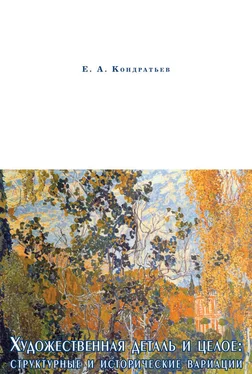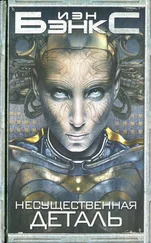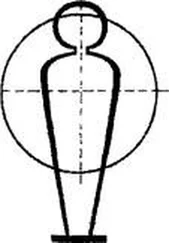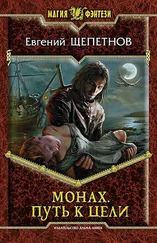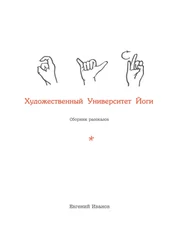Феномен детализации и фрагментации изображения у Г. Вёльфлина является производным от одной из сторон бинарной оппозиции «множественное единство» / «сущностное единство» в рамках пяти основных антиномических пар – «форм видения». Искусство Ренессанса – множественное, барочное же искусство, вслед за Риглем полагает Вёльфлин, базируется на оптическом, а не тактильном принципе. Пространство искусства барокко неравномерно, в нем нет равновесия части и целого. Для барочной композиции характерно взаимозамещение части и целого, индивидуальное метонимически и интенсивно может выражать смысл целого. Поскольку для барокко важнее иррациональное настроение, чем упорядоченное соположение фигур, оно атектонически, асимметрично связывает смысл с одним аспектом изображения. Такими самостоятельными центрами смыслопорождения в картинах эпохи барокко служат разнообразные светотеневые эффекты, игра света на ткани, прозрачность стекла, гипертрофия диагональных построений.
Барочная деталь, согласно Вёльфлину, выводит зрителя за пределы изображения, фрагментированно представленные предметы преодолевают границы рамы, элементы указывают на некоторое вненаходимое по отношению к картине единство [5] «Барокко обесценивает свойство линии полагать границы, он умножает края, и поскольку форма сама по себе усложняется, а план запутывается, отдельным частям становится все труднее выступать в роли пластических ценностей: над всей совокупностью форм загорается чисто-оптическое движение…» ( Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002. С. 76–77).
. Ренессансная же деталь сохраняет автономию в силу особого («множественного») типа соединения элементов в рамках изображения, но не выходит за пределы общей композиции.
В целом, формальное искусствознание трактовало эволюцию искусства как движение к все большему оптическому единству, а следовательно, к усилению индивидуального, произвольного начала в произведении.
Проблема соотношения части и целого в контексте культурологии и философии XX века
Придание отдельному изобразительному знаку, символу, образу центральной смыслообразующей роли – характерная черта интеллектуальной культуры XX века, в которой доминируют иррациональные феноменологические и экзистенциальные «пограничные» вопросы. В них деталь интрепретируется как граница, предел определенного способа трактовки реальности, к контрасту ближнего (пластического) и дальнего (обусловленного идеей) способов видения сводится эволюция искусства.
По О. Шпенглеру, возможны два типа организации художественной композиции: осязательный, связанный с контуром, и размещающий на поверхности картины изолированные пластические фигуры, и оптический, основанный на неравномерном представлении пространства, концентрации пространственного смысла в точке [6] Относительно истоков барочной живописи Шпенглер замечает: «Нужно было решить, во-первых, как понимать живопись: пластически или музыкально, как статику предметов или как динамику пространства… Контуры ограничивают материальное, красочные оттенки интерпретируют пространство… Вопрос о самой действительности решается в пользу пространства, через которое, по Канту, только и являются вещи. С этого момента в живопись привходит труднодоступный метафизический элемент…» ( Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. С. 416–417).
. Многие представления об отношении оптического принципа к принципу тактильному, взгляды на соотношение целого и роль фрагмента Шпенглер заимствовал из формальной школы. «Оптическое» фаустовское мирочувствие западноевропейской культуры приводит к усилению значения дальнего плана – «дали», «бесконечного пространства» по сравнению с передним, тактильно близким.
«Линия (горизонта), в призрачной дымке которой расплываются небо и земля – воплощение и сильнейший символ дали, – содержит в себе принцип бесконечно малых» [7] Там же . С. 413.
.
Дальний план, многообразные способы изображения облаков и атмосферы в искусстве XVII века Шпенглер называет новыми элементами в фаустовской живописи [8] «Наиболее значительным элементом в картине западного сада оказывается, таким образом, пункт наблюдения (point de vue) большого парка рококо, куда выходят аллеи и дорожки между подстриженными газонами и откуда взор теряется в широких замирающих далях» ( Там же . С. 414).
. Для Шпенглера перспектива и далевые образы ностальгичны, то есть вызывают чувство мимолетности, исчезновения. В качестве определяющих колористических элементов при построении образа дали служат синий или зеленый («католический сине-зеленый колорит», по выражению Шпенглера), а затем и коричневый цвета в живописи барокко, цвета наиболее пространственные, атмосферические, являющиеся чем-то вроде «генерал-баса» для остальной палитры.
Читать дальше