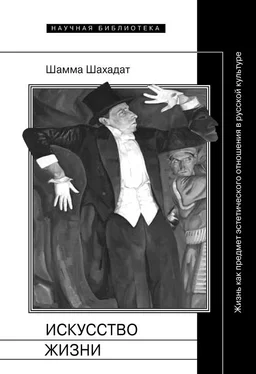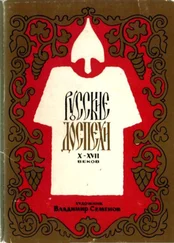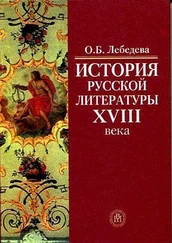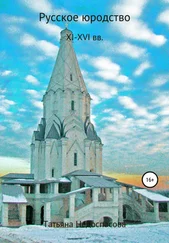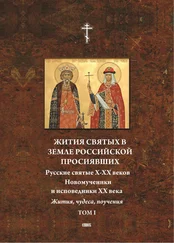Между тем печатью сатанизма отмечены не только шутовские собор и монастырь, но и все праздники, проводившиеся по инициативе Петра. Все они допускают смешение праздничного террора с террором реальным, как в том случае, когда родственники осужденного на казнь должны были после нее «весело пить с царем» (Бергольц, 1859, 144). Петровский праздник представлял собой акт культурного творчества, направленный на формирование гибридного пространства, в котором должны были встретиться шутка и серьезность, политика и искусство, Россия и Запад. Петр ввел подлинное праздничное насилие, при нем веселье стало неукоснительным законом. «Праздник есть дозволенный или, точнее, рекомендованный эксцесс, способ прорваться в сферу запретного, – пишет в книге «Тотем и табу» Фрейд и добавляет: – Праздничное настроение возникает тогда, когда разрешается делать то, что обычно запрещено» (Freud, 1991, 194). Опираясь на Фрейда, на его парадоксальное определение праздника как запланированного эксцесса, как нормированного нарушения нормы, Иоахим Кюхенхоф приходит к выводу о двойственном характере праздника [272], который развертывается в промежуточном пространстве между ограничением и отменой границ, принуждением и анархией, порядком и хаосом.
Применительно к праздникам петровской эпохи эти оппозиции должны быть дополнены еще и такими, как «смех – террор» и «свое – чужое». Все, что предпринимал Петр, имело своей целью импорт западной культуры, и все его действия, направленные на достижение этой цели, совершались под маской веселья. Оценка этих противоположностей зависела от точки зрения: для Петра «чужое», западное означало закон и порядок; именем чужого утверждала себя отцовская власть царя-реформатора. Но, по мнению противников реформы, утверждавших ценность «своего», русского, все чужое, иностранное означало вторжение хаоса и провоцировало эксцессы. Насаждая чуждое под маской веселья, Петр инструментализировал праздник не только с целью демонстрации новых правил поведения (так же, как поступали впоследствии Гитлер и Сталин), но и для того, чтобы сделать границу между законностью и беззаконием условной и тем самым проницаемой для ценностей западной культуры. При Петре фоном смехового поведения служат устоявшиеся формы русского быта: религиозная иерархия, монастырь, придворный праздник. Социальные институты приобретают таким образом «интертекстуальный» характер, хотя взаимодействуют не словесные тексты, а формы жизни. Так, например, придворный праздник служит своего рода «претекстом» для другого праздника, где царит смех. На первый взгляд, в основе отношения между тем и другим лежит троп, «переиначивание претекста» (Lachmann, 1990, 390) [273], однако, выступая в качестве parodia sacra , смеховой праздник Петра этот претекст еще и подтверждает (придворное торжество, церковная иерархия) и с этой точки зрения находится по отношению к нему скорее в отношении партиципации, чем тропа.
Хронотоп петровского смеха восходит между тем к одному совершенно конкретному прозаическому претексту XVII века – «Служба кабаку» [274], представляющему собой шутливую литургию в форме parodia sacra [275], в которой пародируются православные молитвы [276]и как божество прославляется кабак. Верующий подменен пьяным, его атрибутами являются бедность и прежде всего нагота, отвечающая представлению о юродивом, то есть о мудреце в облике глупца; тем самым нагота предстает как своего рода «маскарадный костюм» (Лихачев, 1976, 20 и далее), что допускает проекцию на петровские маскарады, во время которых русские люди выступали под маской европейцев. Перемена платья означает перемену идентичности. Пьяные персонажи петровских увеселений, щеголяющие в иностранном платье, так же обнажены, как и нагие пропойцы в «Службе кабаку» [277].
1.3. «Арзамас»: словесная битва
В истории «Арзамаса» практика, обозначенная выше выражением «насмешить до смерти», носит метафорический характер, ибо в этом случае речь идет больше о литературном, чем о политическом споре. Если опричнина или шутовские соборы и монастыри Петра Великого действительно существовали как контрмиры в трактовке Бахтина и Лихачева, то «Арзамас» вел существование призрачное, причем в двояком смысле слова. С одной стороны, это литературное объединение являлось ответом на «Беседу любителей русского слова» Шишкова, с другой же – служило комической альтернативой эстетическому пространству «серьезной» литературы, в котором представители высокой поэзии позволяли себе злую насмешку над своими литературными противниками, не стесняясь уничтожать их смехом в памфлетах, пародиях и сатирах. В отличие от практики времен Ивана Грозного, предполагавшей отсутствие границы между серьезной и смеховой личностью, арзамасцы рассматривали свое сообщество как другую, особую форму существования в литературе, которая могла существовать параллельно с серьезной жизнью и серьезным творчеством. «Арзамас» выполнял тем самым функцию своего рода кривого зеркала, в котором отражались две реальности – реальность «Беседы» и реальность эстетики сентиментализма и раннего романтизма [278].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу