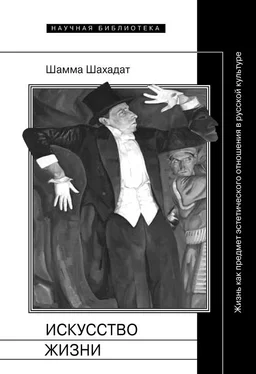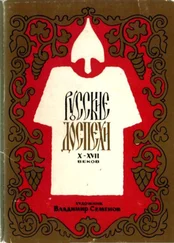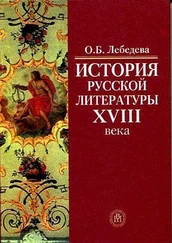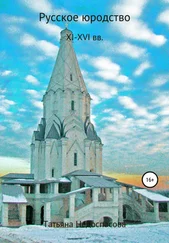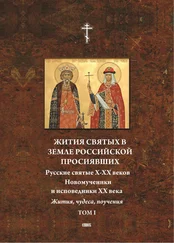В мире Петра Великого хронотоп смеха резко отграничен от сферы серьезной повседневности. Последняя строго упорядочена, тогда как смех направлен на разрушение всякого порядка. И хотя хронотоп смеховой культуры (праздников, «Всешутейного собора», ассамблей и кунсткамеры с ее каталогизированной выставкой чудовищно деформированных тел) институционализирован не менее строго, чем серьезный быт, структура этих институций взрывается смеховыми актами. Смеховые пространства соотнесены с серьезной сферой по принципу контрадикции, они имитируют регламентацию для того, чтобы ввергнуть мир знаков в сокрушительную катастрофу. Тем самым смех ограничен тесными рамками особого хронотопа, находящегося под контролем его хозяина.
Удвоение дискурса власти, включающего серьезный и смеховой порядки, маркировано не столько текстами, сколько действиями, соединяющими в себе празднество, возлияния и смех. Маскарады, праздничные шествия и ассамблеи, «всешутейный собор» и «великобританский славный монастырь» – все это становилось формами организации смеховой стихии и было задумано как пародия на придворные торжества, церковную иерархию, православные монастыри. По своей функции эти антиучреждения представляют собой вариант parodia sacra , причем сакральное пространство, занятое церковью, насыщается новым содержанием: десакрализация сакрального сопровождается сакрализацией профанного. Высшими ценностями провозглашаются Запад и император (как именует себя Петр вопреки привычному слову «царь»), и их священный характер призвана подтвердить parodia sacra, обращенная против традиционных святынь (церкви и религии) [268].
В качестве постоянно действовавшей институции, отмеченной сочетанием террора и смеха и призванной обострить процесс адаптации чужого, выступал в первую очередь «Всешутейный собор». Его члены носили титулы как западных, так и православных священников – среди них были кардинал, патриарх, папа [269]. Собор располагал собственными ритуальными одеждами, молитвами и песнопениями (Ключевский, 1940, 82), а его этикет предписывал каждодневное пьянство. Во время шуточных коронований вместо традиционного «Веруешь ли?», задавался вопрос «Пьешь ли?» (Панченко, 1984, 123). Если кто-либо в результате подобных испытаний умирал, его место тут же занимал преемник, избрание которого сопровождалось торжественной церемонией. Валлотон описывает следующую процедуру:
Кардиналов поодиночке запирали в кельях. Каждые четверть часа кардинал должен был выпивать по большой ложке eau-de-vie или другого крепкого напитка. На следующий день назначалось заседание собора. В результате троекратных выборов назначали нового папу. Все целовали ему руку и туфлю ‹…› За причудливой процедурой избрания следовал маскарад, длившийся восемь дней. Все это время царь с утра до вечера понуждал гостей к пьянству и шутливым проделкам
(Vallotton, 1958, 351).
Показательно, что пить полагалось не русский напиток, а чужеземный, eau-de-vie. Это влечет за собой сложный обмен между знаком и телом – иноземный, с Запада завезенный напиток является знаком чужой культуры, но в навязываемом акте его поглощения знак этот ресоматизируется. Заставляя своих подданных вливать в себя иностранное питье, Петр разрушает границы тела.
Пьянство представляет собой эксцесс, как и смех, выход за пределы господствующего порядка, забвение требований разума. По Плеснеру, смех свидетельствует о «несомненной эмансипации телесности от личности» (Plessner, 1970, 41), тогда как опьянение имеет своим условием «разрушение единства человека» (Там же). На празднествах, устраивавшихся Петром, смех (торжество телесного начала) и пьянство (утрата этого начала) насильственно соединяются, поскольку пьянство считалось непременным условием праздника. В том и другом случае тело эмансипируется от личности, которая его, как говорит Плеснер, «имеет» – оно либо начинает господствовать (в смехе), либо распадается (в результате опьянения), причем опьянение нередко заканчивается смертью. Провоцируя эмансипацию тела, Петр принуждал личность отказаться от своей над ним власти; личность должна была стать безвластной, потерять себя и опустошить – для того, чтобы ее можно было заполнить новым содержанием, культурой Запада.
Смеховые и пиршественные эксцессы означали выход из упорядоченного мира, нарушение его границы, утверждающее вместе с тем этот нарушенный порядок. Размышляя об акте пересечения границы, Фуко указывает на его иллюзорный характер:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу