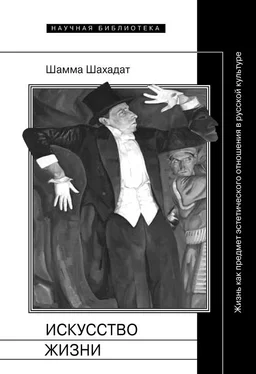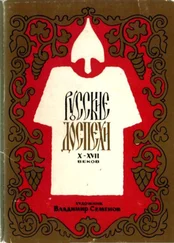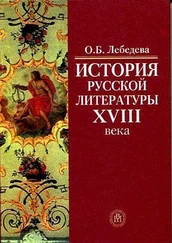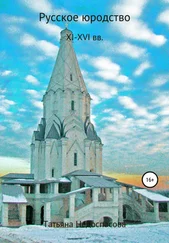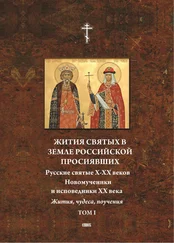Переход – действие, связанное с понятием границы, ‹…› пересечение какой-либо линии, которая затем снова смыкается, смывается волной забвения ‹…›. Граница и переход через нее взаимообусловлены; не существует границы, которую абсолютно невозможно пересечь, и, напротив, лишено смысла пересечение, преодолевающее границу лишь иллюзорную, лишь тень ее
(Foucault, 2012, 16 и далее).
Пьянство означает, кроме того – помимо выхолащивания личности и отсылки к господствующему порядку, – переход через границу тела, поскольку в него вливается иностранный, не русский напиток. Так употребление вина становится эквивалентом переодевания – в том и в другом случае тело выступает границей, подлежащей пересечению, причем насыщение тела вином есть пересечение внутреннее, а переодевание – внешнее. Тело либо инкорпорирует чужое, либо, подобно «наряженной кукле» (Рихард Сеннет), выставляет его напоказ. Примером переодевания являются любимые Петром маскарады, сопровождавшиеся, как и праздники или смеховые институции, смехом и пьянством. Такой характер носил, например, маскарад, устроенный по случаю празднования Ништадтского мира. Более тысячи участников этого празднования нарядились в различные костюмы, в том числе и жених – герой свадебного торжества, проходившего в рамках всеобщего ликования; царь, одетый голландским матросом, самолично бил в барабан. Перед ним выступали трубачи в арабском платье. За ним следовал князь, одетый по древнерусскому обычаю. Царица явилась в образе голландской крестьянки; слева и справа от нее шествовали по восемь арабов, переодетых индусами (Бергольц, 1859, 172).
По внешним признакам этот маскарад вполне отвечает законам карнавального действа, по Бахтину: та же инверсия иерархического порядка, тот же обмен идентичностями. В действительности же этот карнавальный эксцесс был организован строго по правилам придворного этикета, предписывавшего травестию. Культурный и социальный синкретизм, так явственно проявившийся в этом празднике, был притворным: за веселым карнавальным бесчинством скрывалась железная воля его организатора.
Тело, которое переодевают, подвергают воздействию вина или осмеянию, становится ранимым, в отличие от тела царского, остающегося нетронутым и неповрежденным. Даже в тех случаях, когда Петр, притворяясь простолюдином, идет в народ, он не утрачивает своего господского достоинства; напротив, его простота лишь подчеркивает, как отмечает Славой Жижек, символическую функцию его царственности:
Дело отнюдь не в том, что его бренное материальное тело является опорой и символом, воплощением его духовного существа. Парадокс в том, что как только та или иная личность начинает функционировать в качестве «короля», ее самые обыкновенные, бытовые свойства претерпевают своего рода «транссубстанцивацию», становясь объектом восхищения
(Zizek, 1993, 125).
Царь, делающий вид, что он живет как «обычный человек», не теряет ни на йоту своего царского достоинства, своего сублимированного тела (Там же). Тело Петра Великого, которое историки описывают как исключительное (огромный рост, большая физическая сила и т. д.) [270], всегда оставалось окруженным аурой власти.
Своего рода «младшим братом “Всешутейного собора”» (Панченко, 1984, 129) являлся «Великобританский славный монастырь», деятельность которого была направлена, кажется, против Запада. Образцом для этого «монастыря глупцов» служил, согласно Панченко, английский клуб масок, культивировавший жанр parodia sacra (Там же). Монастырь глупцов состоял преимущественно из иностранцев, как правило высокопоставленных жителей западноевропейских колоний Петербурга – профессоров, юристов, поэтов и политиков. Подобно «Всешутейному собору», он предполагал строгий регламент шутовского поведения, в котором смех нередко сочетался с насилием [271]. Панченко полагает, что функция шутовского собора, как и монастыря, заключалась не столько в подрыве устоев церкви, сколько в протесте против церковной регламентации веселья. Церковь контролировала смех, устанавливая предназначенные для него праздничные дни, как, например, масленичный карнавал. «Проводя секуляризацию, – пишет Панченко, – Петр намеревался внушить мысль, что веселиться можно всем, и внушал ее личным примером» (Панченко, 1984, 131).
Какую же роль играл смех в эпоху Петра, если соглашаться с мнением Лотмана и Успенского (1991, 187), утверждавших, что на Руси смех носил сатанинский характер, тогда как в Европе он был безобидным и радостным? Логично предположить, что поскольку реформы Петра генерировали гибридную русско-европейскую конструкцию, такими же оказывались и формы смеховой культуры. Инсценировки комического выдают себя за веселье европейского типа, но под маской беззаботной веселости прячется сатанинское начало, стремящееся к разрушению старых порядков и связанное с принуждением, пытками и гибелью. По-видимому, в работе Панченко эта деструктивная сторона русского смеха учтена недостаточно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу