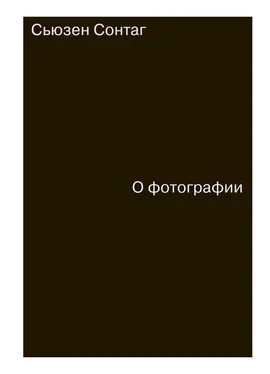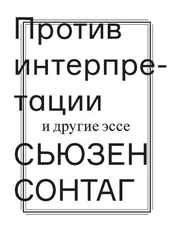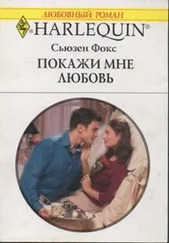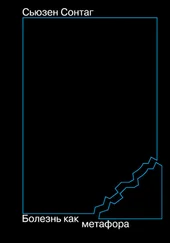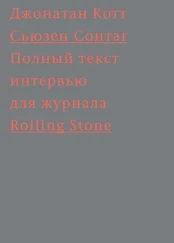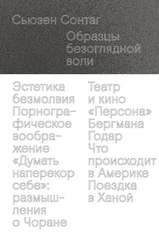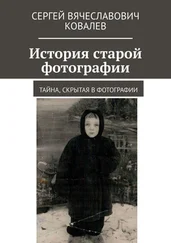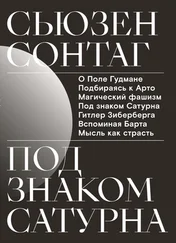Опасения, что фотосъемка нивелирует своеобразие человека, чаще всего высказывались в 1850-х годах, когда портретная фотография впервые показала, как благодаря ей может мгновенно возникать мода и устойчивая промышленность. В «Пьере» Мелвилла, опубликованном в начале того десятилетия, герой, еще один страстный поборник затворничества, «подумал, с какой бесконечной готовностью может быть сделан чей угодно портрет при помощи дагерротипа, тогда как в прежние времена верный портрет был доступен только денежным или духовным аристократам земли. И как же естественно вытекает из этого, что теперь не гения обессмертит портрет, как прежде, а только выставит тупицу. Кроме того, когда опубликуют портреты всех, настоящим отличием будет – не показать публике своего».
Но если фотографии принижают, то живописные портреты искажают противоположным образом: возвеличивают. Мелвилл интуитивно чувствует, что все формы портретирования в бизнес-цивилизации скомпрометированы; так, во всяком случае, кажется Пьеру, герою отчужденности. Так же как фотоснимок в массовом обществе – это слишком мало, живописный портрет – это слишком много. Природа живописи, отмечает Пьер, «больше склоняет к почтению, нежели сам человек; ничего умаляющего нельзя представить себе в портрете, между тем как в человеке можно вообразить множество умаляющих черт».
Если даже эти парадоксы, можно сказать, сняты ввиду полного торжества фотографии, главное отличие фотографического портрета от живописного сохранилось. Живописный неизменно суммирует, фотографический – обычно нет. Фотографические изображения – свидетельства в протяженной биографии или истории. И одна фотография, в отличие от одной картины, подразумевает, что будут другие.
«Всегда – Человеческий Документ, чтобы настоящее и будущее не порывали связи с прошлым», – сказал Льюис Хайн. Но фотография не только сообщает о прошлом – как показывают миллиарды современных снимков, она меняет наше отношение к настоящему. Старые фотографии наполняют нашу мысленную картину прошлого, фотографии нынешние превращают настоящее в мысленную картину, как бы в прошлое. Камеры устанавливают дедуктивное отношение к настоящему (действительность узнается по ее следам), опыт немедленно приобретает ретроспективный характер. Фотографии предоставляют в мнимое владение как прошлое, так и настоящее – и даже будущее. В «Приглашении на казнь» Набокова заключенному Цинциннату показывают «фотогороскоп» ребенка, составленный зловещим мсье Пьером, – альбом фотографий девочки Эммочки в младенчестве, потом маленьким ребенком, потом в ее теперешнем возрасте, а затем в ретушированных фотографиях ее матери – Эммочки-подростка, невесты, 30-летней и, наконец, 40-летней на смертном одре. Пародией на работу времени называет Набоков этот образцовый артефакт. Вместе с тем это пародия на работу фотографии.
Фотография, имеющая множество нарциссистических приложений, является также сильным средством обезличивания наших отношений с миром, и две эти функции дополняют одна другую. Как бинокль, в который можно смотреть с обоих концов, камера делает экзотические вещи близкими, а привычные вещи маленькими, абстрактными, чужими, далекими. Это простое, входящее в привычку занятие позволяет нам участвовать в чужих жизнях и вместе с тем ведет к отчуждению. Война и фотография теперь, кажется, нераздельны. Авиационные катастрофы и другие жуткие происшествия всегда притягивают людей с фотоаппаратами. Общество, настроенное на то, чтобы никогда не знать лишений, неудач, несчастий, страданий, страшных болезней, и саму смерть воспринимающее не как естественное и неизбежное событие, а как жестокое, незаслуженное бедствие, с громадным любопытством относится к таким происшествиям и отчасти удовлетворяет его путем фотографирования. Ощущение, что бедствия вас не коснутся, стимулирует интерес к мучительным картинам, и, разглядывая их, вы укрепляетесь в сознании своей защищенности. Отчасти потому, что вы – «здесь», а не «там», отчасти же потому, что эти события, будучи преобразованы в картинки, приобретают характер неизбежности. В реальном мире что-то происходит, и никто не знает, что еще произойдет. В мире изображений это уже произошло и будет происходить так.
Многое зная о мире по фотографиям (искусство, катастрофы, красоты природы), люди часто бывают разочарованы, удивлены или остаются равнодушными, когда видят что-то своими глазами. Фотографическим изображениям свойственно вычитать чувство из того, что мы пережили бы непосредственно, а чувства, которые они сами пробуждают, по большей части отличаются от тех, которые мы испытываем в реальной жизни. Часто что-то волнует нас на фотографии сильнее, чем при непосредственном соприкосновении. В 1973 году в шанхайской больнице, присутствуя при том, как у рабочего с тяжелой язвой удаляют девять десятых желудка под акупунктурной анестезией, я наблюдала за трехчасовой операцией (впервые в жизни) без чувства дурноты, и мне ни разу не захотелось отвернуться. Годом позже в парижском кинотеатре на документальном фильме Антониони о Китае, где снята менее кровавая операция, я вздрогнула при первом же надрезе, сделанном скальпелем, и несколько раз отводила глаза на протяжении эпизода. Тяжелые события, запечатленные на фотографии, могут воздействовать на человека болезненнее, чем в живом виде. Частично эта уязвимость есть следствие пассивности, на которую обречен зритель в квадрате – зритель событий, которые уже определены сначала участниками, а затем создателем изображения. Перед настоящей операцией мне надо было вымыться и надеть хирургическую пижаму, а потом стоять рядом с работающими хирургами и сестрами в роли владеющего собой взрослого, воспитанного гостя и почтительного свидетеля. В кино вам отказано не только в таком скромном участии, но и в какой бы то ни было чисто зрительской активности. В операционной я сама меняю фокус, беру крупный план или средний. В кино Антониони уже выбрал, какие части операции мне смотреть, за меня смотрит камера – и меня обязывает смотреть, поставив перед узким выбором: или не смотреть вообще. Вдобавок то, что длится часы, фильм сжимает в несколько минут, оставляя только интересные части, показанные интересным образом, то есть с целью взволновать или потрясти. Драматическое драматизируется дидактикой кадра и монтажа. Мы переворачиваем страницу в фотожурнале, новый эпизод начинается в кино – и возникает контраст, более резкий, чем между последовательными событиями в реальном времени.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу