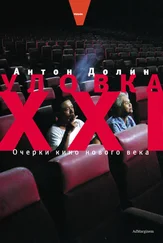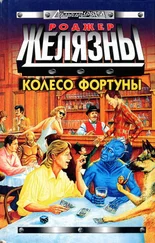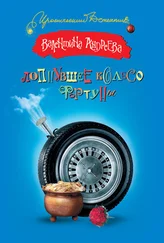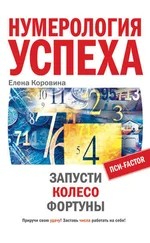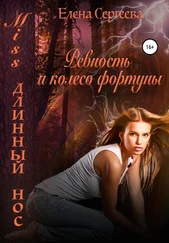Объяснение такого «сдвинутого» порядка знаков заключается в том, что Телец, Лев, Скорпион и Водолей образуют так называемый «керубический крест», указывающий на максимум характерного проявления каждого из четырех времен года: весны (Телец), лета (Лев), осени (Скорпион) и зимы (Водолей).
Эти знаки акцентируют именно «земной» ход года, его переживание земледельцами – в отличие от знаков «кардинального креста», делящих астрономический год, указывая на точки весеннего и осеннего равноденствий: Овен и Весы, и точки зимнего и летнего солнцестояний – Рак и Козерог. Тем самым Вишер как бы подчеркивает: помня о том, что Земля принадлежит небесному, астрономическому порядку, он создавал свою карту для тех, кого интересуют, прежде всего, земные дела – это действительно новейший подход к земной картографии, воистину: Novissima Totius Terrarum Orbis Tabula.
Обратим внимание: изображения Земли на барочных «бордюрных картах» несколько иначе взаимодействуют с эстетическим оформлением, чем это происходит у карт XVI в. Сердцевидные и фигурные карты 1530–1590-х гг., деформируя или трансформируя «географическую прорисовку», сводя ее к некой фигуре – сердцу, льву, королеве или Пегасу, тем самым усложняли контексты ее восприятия. Барочные же карты сополагают различные контексты, встраивая объект – изображение земной поверхности – в иерархические ряды: земной ландшафт и круг времен года, земной ландшафт и ход светил на небе, земной ландшафт и зодиакальный круг… Здесь сказывается типологическая разница двух эпох – но и в том, и в другом случае карта вносит в наше восприятие земного ландшафта некие дополнительные, внеположные ландшафту, как он есть, смыслы. Таким образом, географический объект, представленный на двух даже идентичных по географической прорисовке, но имеющих разное декоративное оформление картах, оказывается не равен самому себе.
Художественное оформление карт XVI–XVII вв. было не просто данью эстетике, стремлением к красивости как таковой, а несло весьма серьезную информационную нагрузку, придавая объекту дополнительные измерения, акцентируя устремления картографа.
Игра о сэре Уолтере Рэли, славном его возвышении и трагическом его конце
Зрачками глаз моих мир познает себя,
Я – мера лет, мной времени стезя
Речь обретает. Око мира – я.
Метрический перевод сэра Уолтера Рэли из «Метаморфоз» Овидия (ТУ, 226–228), включенный в «Историю мира», писанную им во время заключения в Тауэре в правление короля Иакова.
Конец всего сущего трагичен, но коли предпочтительнее именовать сие комедией, именование это не встретит с моей стороны никоих возражений, покуда согласны мы с замечанием Петрония о том, что всякий живущий в этом мире играет роль на подмостках…
Иоанн из Солсбери. «De mundana comedia, vel tragedia»
Суфийская мудрость гласит: «Для того чтобы что-либо произошло, нужные люди должны оказаться в нужное время в нужном месте».
Когда в один из зимних дней 1581 г. Уолтер Рэли [671]оказался в Лондоне, все его состояние заключалось в захудалом девонширском поместье и костюме, приобретенном для визита ко двору, примерно равном по стоимости этому поместью. А дальше начинается легенда. Одна из многих.
Рэли спешил во дворец с поручением от своего начальника, лорда Грея, английского наместника в Ирландии, к кому-то из сильных мира сего. Он стоял у Холбейнских ворот, когда из них вышла королева Елизавета в сопровождении испанского посла и принца Анжуйского. Вышла, чтобы остановиться в замешательстве: путь процессии преграждало месиво из подтаявшего снега и грязи. Дальнейшее стоит замедленной съемки. Пышность королевской свиты. Золотая парча королевского платья – Елизавета любила золотистый цвет. Легкая снежная пыль, танцующая в воздухе. Желтоватое месиво дороги. И – алым всполохом – прочерчивающий широкую дугу бархатный плащ, отделанный драгоценностями, брошенный бедным дворянином Рэли под ноги своей королеве. [672]Жест подчеркнуто театральный. Но английский королевский двор того времени воистину был «великим театром». Театром, в котором директором, режиссером и исполнительницей главной роли была королева.
И тем промозглым зимним утром девонширский дворянин оказался ее достойным партнером.
Последнее нуждается в пояснении. Один из исследователей Ренессанса обронил меткое замечание о том, что все Возрождение, истоки которого мы видим в Италии, обязано своим появлением на свет «средневековой концепции всемирной империи». [673]Обращение к наследию античности было продиктовано стремлением возродить империю в том виде, в каком ее знал век Августа. Более того, эта ностальгия по утраченному величию единой монархии приобретала весьма явственный антикатолический оттенок именно на Святой Престол многие мыслители, начиная с Данте, возлагали ответственность за то, что некогда цельная империя погрязла в бесчисленных распрях, ибо, стремясь к усилению своей власти, папы не останавливались перед тем, чтобы провоцировать столкновения европейских королевских дворов. В Англии этот комплекс идей, наложившись, с одной стороны, на сформулированное еще Гальфридом Монмутским представление о том, что англичане являются единственными истинными наследниками славы римлян, [674]а с другой – на англиканскую доктрину верховной власти короля над государством и Церковью, вызвал к жизни концепцию Великой протестантской империи. [675]Восшествие на престол Елизаветы внесло в эту картину эсхатологический оттенок, ибо, казалось, сбывается пророчество Кумской Сивиллы, что «Золотой век Сатурна вернется на землю с явлением девы, которая принесет с собой справедливость». [676]Источником пророчества являлась в данном случае та самая четвертая эклога Вергилия, в которой видели и предсказание о рождении Христа, что повышало «авторитетность» текста:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
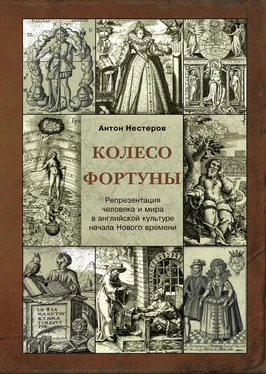

![Брайен Фрил - Колесо фортуны [=Кристал и Фокс]](/books/93033/brajen-fril-koleso-fortuny-kristal-i-foks-thumb.webp)