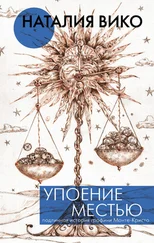Дюма трудился за пределами лагеря Мольде. Он водил небольшие отряды драгун и других кавалеристов (как правило, из четырех или восьми всадников) в разведку с целью предупредить австрийские набеги. В большинстве случае разведчики видели коров и овец, а не австрийских солдат. Но 11 августа они наткнулись на вражеское подразделение. Дюма заметил всадников противника – их было значительно больше. Но вместо того чтобы попытаться спастись или спрятаться, капрал Дюма повел свой маленький отряд в атаку [498]на опешивших австрийцев. Те, пораженные самим видом чернокожего здоровяка ростом 185 сантиметров, который мчался на них во весь опор по бельгийскому полю с фасолью, быстро сдались – в полном составе. Сын Дюма – писатель – станет описывать этот инцидент с явным удовольствием:
Заметив их, он [499], несмотря на явное численное превосходство врага, тут же дал приказ атаковать. [Австрийцы], неготовые к столь внезапному нападению, отступили на небольшой луг, окруженный канавой, – достаточно широкой, чтобы остановить всадников. Но, как я сказал, мой отец был превосходным наездником. Он ехал верхом на добром коне по кличке Джозеф. Он схватил поводья, пришпорил Джозефа, перепрыгнул через канаву… и через мгновение оказался один среди тринадцати егерей, которые, пораженные подобной храбростью, побросали оружие и сдались. Победитель сложил тринадцать карабинов в груду, поднял их на луку седла, отконвоировал тринадцать человек к своим четырем драгунам, остановившимся по другую сторону канавы, которую они не смогли пересечь, и, став последним, кто переправился через эту канаву, он отвел пленных в лагерь.
Пленные в те дни были редкостью, и вид четырех драгун, конвоировавших тринадцать человек, произвел настоящую сенсацию в лагере. Это доказательство храбрости юного офицера стало предметом долгих обсуждений. Генерал Бёрнонвиль пожелал увидеть его, произвел в сержанты, пригласил на ужин и упомянул его имя в отчете за день.
Таким стало первое признание нового имени, Александр Дюма, принятого сыном маркиза де ля Пайетри.
То, что героизм отца соответствовал описанию, данному сыном, подтверждает «Moniteur Universel» (газета, публиковавшая в революционной Франции фронтовые сводки) в выпуске от субботы, 18 августа 1792 года. Капрал Дюма, отмечено в газете, «так ловко перерезал путь [500][вражеским всадникам] и бросился на них так стремительно, что они все сдались с заряженными ружьями, не успев сделать ни единого выстрела». Сын подарил Алексу Дюма тринадцать пленных, газета упоминает только о двенадцати.
Три месяца спустя издание все еще обсуждало свершения Дюма. Журналиста особенно впечатлило его решение передать свою часть военных трофеев в пользу французской нации: «Гражданин Дюма, американец [501], передавший в качестве патриотического дара сумму в 12 ливров 10 су, его долю дохода от ружей, захваченных им и его сослуживцами у 12 тирольцев, которых они пленили». Вполне широкий, патриотический жест для армии, которая, судя по всему, предлагала безграничные возможности прославиться.
Глава 10
«Черное сердце тоже бьется за свободу»
В нескольких сотнях километров к югу разворачивался гораздо более масштабный приграничный рейд. Соединенные силы из десятков тысяч пруссаков, австрийцев и гессенцев вместе с несколькими сотнями эмигрантов-контрреволюционеров пересекли границу в лесистой местности восточнее французской крепости Верден. Французская оборона разваливалась перед продвигающимися германскими войсками. Командующий крепостью Верден покончил жизнь самоубийством [502].
2 сентября, как только новость о вторжении достигла Парижа, город наводнили слухи о заговоре. Поскольку народные армии непобедимы, единственный способ, при помощи которого германцы могли пересечь границу, это… предательство! Измена в пользу врага! Революционные армии наверняка проданы с потрохами благодаря чудовищному заговору аристократов.
Толпа взяла штурмом городские тюрьмы и расправилась с заключенными, «врагами государства», пойманными за последние две недели. Начав со священников, они переключились на бывших слуг королевской семьи, дворян и, наконец, на мелких преступников – проституток, нищих и воров. Импровизированные «уличные суды» завершались отрубанием головы, причем о быстроте гильотины приговоренным приходилось только мечтать. Толпа использовала старые мечи, пики и даже кухонные ножи. Жизни лишились по меньшей мере 1200 мужчин, женщин и детей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
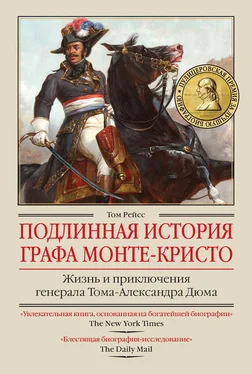
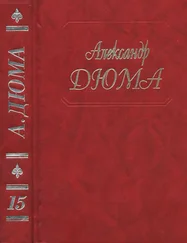
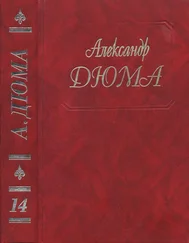

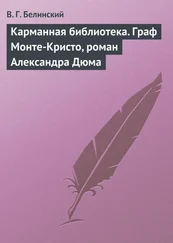
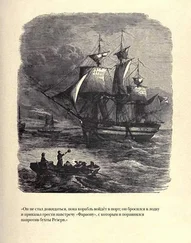

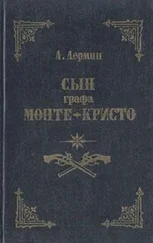
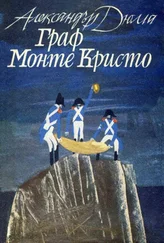
![Александр Дюма - Граф Монте-Кристо [сборник litres]](/books/431076/aleksandr-dyuma-graf-monte-kristo-sbornik-litres-thumb.webp)