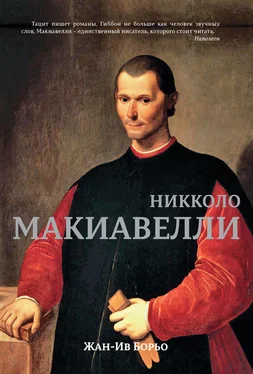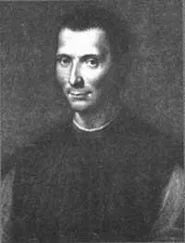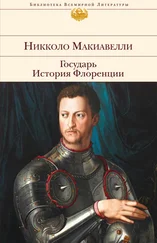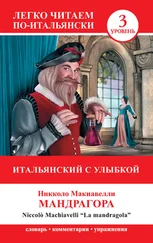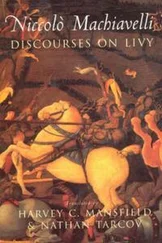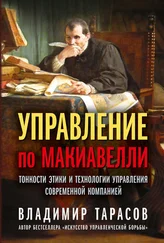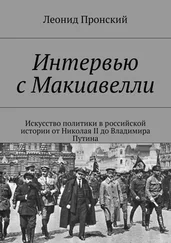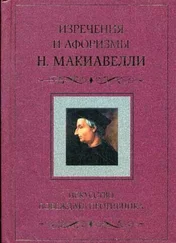Как ни странно, эти годы, прошедшие под знаком самой черной депрессии, оказались невероятно плодотворными с точки зрения литературной деятельности. Для многих из нас писательская ипостась Макиавелли предстает неожиданной, но она открывает новые грани его личности и дает нам любопытное представление о флорентийском Возрождении.
Преклонение перед Античностью, которое демонстрировали – к вящей славе своих меценатов – интеллектуалы, близкие к Медичи, прежде всего Марсилио Фичино, имело и скрытую пружину, воплощенную в стремлении к критике политической и моральной сущности режима. «Перевод» того или иного латинского текста мог служить предлогом для нападок на те явления времени, осуждать которые напрямую было не только неуместно, но и просто опасно. Действительно, тогдашнее понятие перевода – translatio – заметно отличалось от сегодняшнего, и «переводчику» дозволялось вкладывать в текст смыслы, которых вовсе не имел в виду его автор. Сам «перевод» превращался в своеобразный литературный жанр, требовавший немалой виртуозности, что высоко ценилось в садах Оричеллари, где Макиавелли снова стал желанным гостем.
Это небольшая неоконченная поэма, написанная, как и шедевр Данте, терцинами, но по античному образцу. Впрочем, от образца – романа «Метаморфозы, или Золотой осел» (Asinus aureus; Metamorphoseon, libri XI) римского поэта II в. Апулея – Макиавелли сохранил только фабулу: превращение главного героя в осла. К сожалению, в дошедших до нас фрагментах поэмы о том, что стало с героем после этой метаморфозы, ничего не говорится, хотя в начальных строках автор обещает читателю «обилье ругани и лая». Как и Апулей, Макиавелли вводит в повествование богов, вернее, богинь – только герою первого помогала Исида, а над героями второго куражится злая Цирцея: превратив людей в животных, она с помощью пастушек-дев управляет ими, несмотря на то что и в зверином обличье они сохраняют свои человеческие, как мы сказали бы сегодня, «психологические» черты. Здесь явно прочитывается едкая сатира на флорентийское общество. «Немало горя, муки и печали, / Ослом оборотясь, изведал я, / О чем и повествую», [86]– сообщает нам Макиавелли, из чего мы можем сделать вывод, что рассказ будет автобиографическим. Усвоив горький урок «Государя», он больше не ждет от публики признательности: «И, написав свою поэму сам, / От ругани я не утрачу духа / И похвалам значенья не придам. / Уж если человеческое ухо / Не слышит голоса разумных нот, / Ослиное-то к ним тем паче глухо». Читателю предстоит услышать немало нелицеприятных истин: «И пусть осла хозяин палкой бьет, / Ослиное упрямство только гаже: / Мол, сделаю как раз наоборот. / О том поговорим еще, пока же / Скажу: явил в обличии осла / Премного я и норова и блажи». Из сохранившихся фрагментов поэмы нам известно лишь, что герой встречается с одной из пастушек, находящихся в услужении у Цирцеи, и та одаривает его неземными ласками, утешает и убеждает не спорить с судьбой: «Не перечь ей даром. / И обольщениям пустым не верь. / Она лютует в ослепленье яром, / Покамест не ушла ее пора. / Но будет все ж конец слезам и карам. / Настанет час, и сменятся ветра. / Ночь кончится, и день начнется снова, / И завтра будет лучше, чем вчера». Но героя одолевают мрачные предчувствия: «Я был во власти страха и печали / И, как слепой, смотрел в ночную мглу. / Слова и крики в горле застревали». Поутру гостеприимная пастушка удаляется к своему странному стаду, а герой предается размышлениям, и его одолевают удивительные видения: «Являются цари как привиденья. / И вижу, точно в дали голубой, / Историю их взлета и паденья. / И изумлен я общею судьбой, / Какая очень многими владела. / И долго рассуждаю сам с собой. / И понимаю ясно: то и дело / Приходит к своему пределу власть / Тогда, когда не ведает предела!» Мы снова слышим голос Макиавелли-политика: «Среди правителей лишь у того / Бывает совершенней путь и гладок, / Кто соблюдет закона торжество. / Без ссор, и передряг, и неполадок / Там воцарится благодать сама, / Где суть необходимость и порядок. / Но, коли нету здравого ума, / Не будут долговечными державы, / Где перемен сплошная кутерьма». Последнее замечание явно указывает на шаткость Флорентийской республики, в которой смена гонфалоньеров происходила каждые два месяца. Не отрицая пользы набожности, герой Макиавелли тем не менее понимает, что одного благочестия для крепости государства недостаточно: «Коль в гражданах благочестивы нравы, / В стране порядок, а в порядке том / Живут благополучнейше державы. / Но, коль иной безумец и ведом / Мечтой, что жив лишь благочестьем этим, / И не латает рушащийся дом – / Найдет конец в нем и себе, и детям!» Известный нам фрагмент заканчивается сатирическим описанием бестиария и беседой героя с «огромным хряком», который категорически отказывается снова превращаться в человека: «Ответь: у тигров ли, у поросят, / У пеликанов, у слонов, у блох ли – / Кто был себе подобными распят? / Нет, пусть кажусь я апатичней рохли. / Ты о моем возврате не радей. / Давненько слезы у меня просохли. / Не верь, когда какой-то лицедей / Кричит, что жизнь ему отрада, дескать. / Отраднее, чем жить среди людей, / Со свиньями в хлеву помои трескать». Мы не сомневаемся, что эта сатира пришлась по вкусу флорентийской молодежи, увлеченно спорившей о литературе и политике. В их числе были Луиджи Аламанни, Баттиста делла Палла и Дзаноби Буондельмонти, благодаря которому Макиавелли познакомился с Лудовико Ариосто.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу