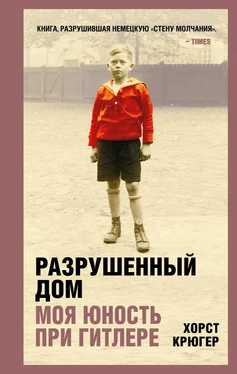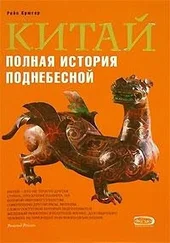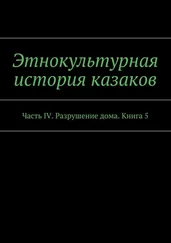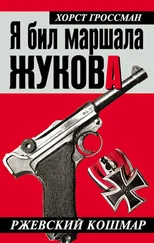Даже на восточной окраине Эйхкампа, недалеко от станции электричек, жил красный сброд. Там стояли поселочные домишки, которые Немецкое общество помощи бедным, к огорчению пожилых эйхкамповцев, построило в последние годы. Эти домишки были такие же бедные и некрасивые, как и наши, они все были похожи как две капли воды, но мои родители всегда настаивали, что они выглядят совсем по-другому, бедные и дешевые изделия массового производства, ни в коей мере не относящиеся к добротному стилю домов старожилов. Действительно, красные жили здесь по-другому. Их домики оседали в длинных, узких бороздах, словно их хотели спрятать. Усаженные по краям цветами неровные дорожки вели к входной двери, перед домом бегали домашние птицы, и женщины, повязанные застиранными ремешками, в светло-голубых платках на голове, носили туда-сюда деревянные бадьи и цинковые ведра, трудились и мучились, на манер немецких ремесленников. Странный, чужой мир – смесь любопытства и осторожности, – в который я никогда не вступал; девять лет я проходил со школьным портфелем мимо этих заборов красных, в конце концов, я был гимназистом и стал бы первым в нашей семье, кто окончил школу. Я осмеливался лишь бросать вопрошающие взгляды на далекий, недоступный, запретный, низкий мир, из глубины поднимались надежда и страх – а вдруг эти красные прорвутся в Эйхкамп?
Наш Эйхкамп всегда был каким-то возвышенным и чинным. Моя мать никогда не носила голубых платков, больше не таскала туда-сюда бадьи, ведь от такого частенько вовсю хворала, всегда называла себя «страдающей», что придавало ей ауру возвышенности. Я так никогда и не выяснил, в чем же, собственно говоря, заключались ее страдания. Для работы по дому она держала служанку. От той всегда разило пóтом, она стоила тридцать марок в месяц, у нее были толстые, обрюзгшие руки, и каждые три или четыре месяца она, как мои родители тогда говорили, «с бухты-барахты» увольнялась. Она все время рожала детей, и, будучи еще мальчишкой, я сперва связывал это с запахом пота. Лишь позже я услышал, что «этот сброд» неописуемо грязный и импульсивный, открыто проводит свободные воскресные вечера с солдатами и в качестве небесной кары за такое распутство через пять месяцев получает детей.
Дома мы не говорили о рождении детей. Мои родители были не только аполитичны, но также неэротичны и асексуальны. Наверное, это взаимосвязанные вещи – молчать как про любовь, так и про политику. Не барское все это дело. Прежде всего сексуальность была невыразимо низкой и грубой, и лишь только когда мне наконец исполнилось шестнадцать лет и я, как и все мальчишки в Эйхкампе, давно уже мастурбировал, мои родители, видимо, что-то заметив, устроили долгое совещание.
Как-то вечером на моем ночном столике появилась тоненькая книжка. Я очень удивился, поскольку до этого печатное слово не играло никакой роли в жизни моих родителей. Я сразу понял, что речь о чем-то экстраординарном. Я начал читать. Это было мягкое, нежное, дружелюбное разъяснение, которое начиналось с травинок и шмелей, потом речь шла о солнце, потом повествовало о чудесах сил божьих, под конец переходило на силы человеческие, и речь шла об ужасном смертном грехе слабости. От этого, мол, страдает спинной мозг. Но я определенно не уловил взаимосвязи, в то время это было для меня слишком благочестивым. Это была католическая разъяснительная книжка, которую моя мать в своей беспомощности приобрела у урсулинок. Она никогда не говорила об этом, я никогда не говорил об этом. В нашем доме вообще никогда не заговаривали на эту тему, и если бы не реакции моего собственного тела, я бы и в двадцать лет все еще верил в ужасный пот нашей служанки. Вот так у нас обстояли дела. Дом немецких представителей среднего класса не пускает на порог не только государство, но и любовь. Спрашивается – чисто с точки зрения социологии, – что вообще остается в жизни? Без политики и сексуальности?
Для нас, к примеру, оставались соседи. Были определенные отношения, попытки прощупать почву, следующие попытки, установление границ, попытки их нарушить. Иногда, когда я воскресным вечером около половины шестого возвращался с сестрой из «Риволи», у нас в гостях сидели Марбургеры, соседи, жившие напротив по диагонали. Это были жесткие, утонченные люди, для которых даже отсутствие у них детей было признаком благородности. Она очень высокая, он очень низкий, оба в воскресной парадной одежде, которая всегда попахивала нафталином, они сидели на высоких стульях прямо и ровно, будто аршин проглотили, помешивая серебряными ложечками кофе и при случае отпуская остроумные замечания о соседях. Меня всегда от этого пробирал озноб.
Читать дальше