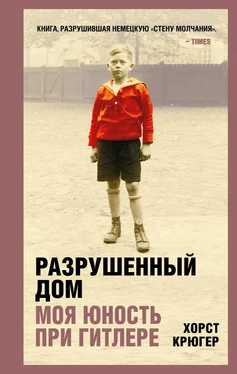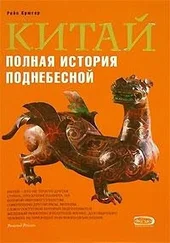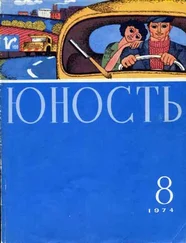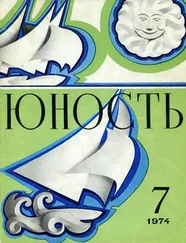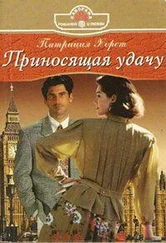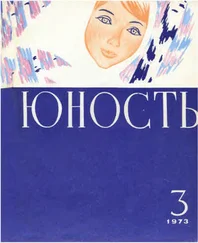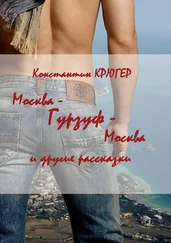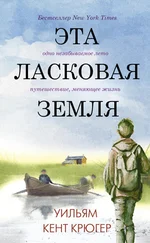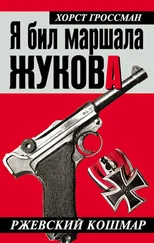Я уже давно привык в таких ситуациях хмуро и неподвижно пялиться в окно. Я все время представлял, будто сижу вовсе не за этим семейным столом, а где-нибудь снаружи в саду, один, завтракая на лоне природы – эдакий великолепный праздник одиночества. Должно быть, не обращать внимания на других было настоящим издевательством. Уже в тринадцать лет я мог пять минут с отсутствующим видом помешивать кофе в чашке и с интересом смотреть на раскачивающуюся на ветру сосну, пока мои родители предпринимали попытки односложно прокомментировать пирог, поведение служанки или состояние нашего шкафа в стиле барокко. Но даже на мой отсутствующий вид никто не обращал внимания. Мы все сидели, словно марионетки, неспособные сблизиться. Мы висели на ниточках.
После завтрака наступала кульминация. Мой отец начинал заводить большие напольные часы, украшавшие столовую, словно длинный, вертикально поставленный гроб. Отец отпирал дубовую панель и торжественно открывал большую стеклянную дверцу, выуживал с витрины здоровенный заводной ключ из тяжелой латуни. Затем он внезапно и решительно хватал маятник. В комнате больше не тикало. Угнетающая тишина, затем часовой механизм начинал с жужжанием поворачиваться, пружинный механизм заводился короткими, тугими поворотами ключа. Вверх поднималась пыль. Процедуру надо было проводить дважды, затем нужно было заново отрегулировать звонок, и тогда его сила волшебным образом как бы переходила в часовой механизм. Теперь неделя могла начинаться: воскресенье было обеспечено, часы опять будут еще неделю тикать и звенеть. Отец прикуривал сигару ценой двадцать пфеннигов.
Затем традиционное обсуждение похода в церковь. У нас было какое-то непостижимое правило, что в воскресенье кто-то из нас всегда должен был идти в церковь. Мы вовсе не были так благочестивы – тем не менее. Отец всегда отказывался под тем предлогом, что он был евангелистом, а в Берлине евангелисты не ходят в церковь. У моей матери же всегда была сильная потребность в духовном утешении и общении с высшими силами – еще задолго до Гитлера. Это сулило ей утешение и прилив сил, напоминало ей о проведенном в монастыре времени, но, к сожалению, ее подорванное здоровье лишь изредка позволяло ей совершать подобные походы. Как и почти у всех женщин, у нее было слабое сердце, и как раз по воскресеньям, когда она около одиннадцати начинала оправлять свой полушубок, на котором тоже была помешана, с ней легко мог случиться внезапный, неожиданный сердечный приступ. Тогда приходилось приносить ей капли, и она пластом лежала на диване. Поэтому эту обязанность чаще всего вешали на меня. Ее навязывали самому слабому. Мне было двенадцать, я не был ни католиком, ни евангелистом, а был просто никем, как в те времена почти все эйхкамповцы. Я был самым младшим, не мог дать отпор, и таким образом меня, словно козла отпущения у евреев, гнали в церковь за всю семью.
Как-то так и жилось в Эйхкампе при Гитлере. К полудню везде стоял запах жаркого из говядины или телячьей головы, на гарнир – шпинат или кольраби из огорода. Я всегда должен был рассказывать, что говорил пастор в церкви, но не мог вспомнить точно и заикался. Тогда моя мать начинала скрупулезно, задумчиво и неловко орудовать ножом или вилкой, она так ковыряла картофель нервными уколами, словно подчеркнутым ритуальным разделыванием пищи могла замолить вину за мой недостаток веры. Порой мой отец, повязывая салфетку, отпускал язвительное замечание в адрес католиков. Тут уж моя мать теряла терпение. Они ссорились. Затем просили соус и картофель, и я опять начинал с интересом смотреть в окно.
В три часа пополудни в кино. Сеанс для молодежи: входной билет – тридцать пфеннигов. Хоть я чаще всего этого не хотел, но в то время всегда должен был отправляться со своей сестрой в «Риволи» на озере Галензее. Опять эти пустые, бессмысленные походы через Эйхкамп, снова эта близость марионеток, которых дергают за ниточки. Неподалеку от Галензее стояли ремонтные мастерские железных дорог. Дорога шла через длинный, темный тоннель, затем внезапно снова становилось светло: длинная, мрачная улица, тишина пригорода, булыжная мостовая, в канаве сорняки и клочки бумаги – неожиданный пролетарский мир. Здесь жили работники железной дороги, стояли их серые дома, однообразные и заросшие, в стиле прусских казарм 1880-х, из окон выглядывали изможденные лица. Это были «красные», как предупреждали мои родители. Я смутно представлял, что под этим подразумевается, но было очевидно, что красные опасны. Должно быть, была причина, почему они прозябали здесь, между Эйхкампом и Галензее, словно на ничейной земле Берлинского округа, как в тюремных стенах. Здесь жил красный сброд – «сброд» вообще было любимым словом моих родителей для обозначения тех, кто ниже нас: ремесленников и служанок, попрошаек и воришек, которые по утрам звонили в нашу дверь и, конечно же, на самом деле хотели ворваться внутрь.
Читать дальше