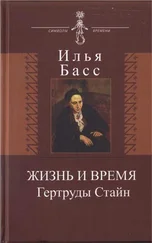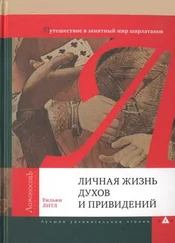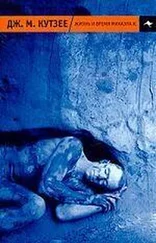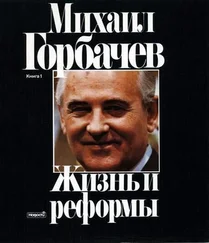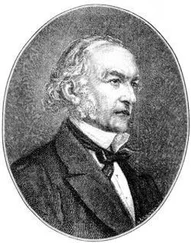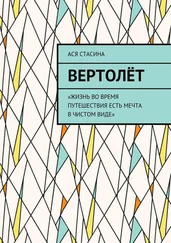Между тем Ирина Горбачева и ее муж Анатолий перевелись во Второй медицинский институт в Москве. Ирина окончила его с “красным дипломом”, отучилась в аспирантуре и начала преподавать. Ее диссертация, в которой переплелись медицинская и социальная темы, называлась “Причины смерти мужчин трудоспособного возраста в городе Москве”. Предмет сочли столь болезненным, что диссертацию засекретили, и, по словам отца Ирины, гриф секретности не сняли даже через тридцать с лишним лет [498] Горбачев М. С. Наедине с собой. С. 261.
.
Не желая сидеть без дела, Раиса посещала научные конференции и другие мероприятия, взялась за изучение английского. Вместе с мужем они ходили на лучшие спектакли и концерты в Большом театре, Большом зале Московской консерватории, на выставки в Третьяковке и в ГМИИ, часто бывали во МХАТе, в Малом театре, Театре имени Вахтангова, Театре сатиры, “Современнике”, Театре имени Моссовета, Театре имени Маяковского и, конечно же, Театре на Таганке, чьи смелые, новаторские постановки давно полюбились Горбачевым (например, “Десять дней, которые потрясли мир” по Джону Риду и “Антимиры” по стихам Андрея Вознесенского). Еще они выбирались на экскурсии по Москве и окрестностям, начав с уже знакомых мест, где бывали вместе в начале 1950-х, а потом стали составлять маршруты уже методично (как любила Раиса), в хронологическом порядке: осматривали Москву XIV–XVI веков, затем обращались к памятникам XVII–XVIII веков, после переходили к XIX веку. В таких поездках их сопровождали специалисты-историки, знатоки определенных эпох, с которыми успела познакомиться Раиса [499] Горбачев М. С. Жизнь и реформы. Кн. 1. С. 190–191; Gorbachev M. Memoirs. P. 124–125.
.
И все-таки чувство одиночества не оставляло ее, а общение с женами других членов Политбюро оборачивалось лишь недоумением и разочарованием. Более молодая, получившая гораздо лучшее образование, более привлекательная и энергичная, она вызывала объяснимое раздражение у кремлевских клуш, державшихся “матронами”. Со своей стороны, им хотелось, как пишет Грачев, “немедленно поставить [ее] на место, что и было сделано в буквальном смысле”. В марте 1979 года, оказавшись на официальном приеме в честь иностранных гостей, элегантно одетая Раиса Горбачева, не подозревая о том, что здесь действует строгая субординация и что кремлевские жены должны занимать места в соответствии с рангом мужей, заняла свободное место – рядом с женой Кириленко. “Ваше место – вот там, – холодно сообщила соседка и даже указала пальцем – …В конце” [500] Грачев А. С. Горбачев. С. 70.
.
“Что же это за люди?” – удивлялась потом Раиса, обращаясь к мужу. Сама она поставила им такой диагноз: “отчужденность”. “Тебя видели и как будто не замечали. При встрече даже взаимное приветствие было необязательным. Удивление – если ты обращаешься к кому-то по имени-отчеству. Как, ты его имя-отчество помнишь?” В этих людях ощущалась “претензия на превосходство, ‘избранность’. Безапелляционность, а то и просто бестактность в суждениях”. Даже среди “кремлевских детей” существовала субординация, отражавшая статус их папаш. Однажды Раиса вслух возмутилась тем, как ведет себя группа молодежи. И тут же ей влетело: “Вы что? Там же внуки Брежнева!” Когда кремлевские жены встречались (а происходило это на официальных приемах, в личном кругу – крайне редко), то выглядело это так: “Бесконечные тосты за здоровье вышестоящих, пересуды о нижестоящих, разговор о еде, об ‘уникальных’ способностях их детей и внуков. Игра в карты”. Раису поражали “факты равнодушия, безразличия”, что-то вроде “потребительства”. Однажды на каком-то приеме на госдаче она сказала разыгравшимся детям: “Осторожно, разобьете люстру!” На что взрослые ей ответили: “Да ничего страшного. Государственное, казенное. Все спишут” [501] Gorbachev R. I hope. P. 124; Горбачева Р. М. Я надеюсь. С. 157.
.
Как же жилось в годы “застоя” простым советским людям? Анатолий Черняев, работавший тогда в международном отделе ЦК, вспоминает, что даже в Москве порой сильно ощущался дефицит продуктов, а в провинции дело обстояло гораздо хуже. Как-то машинистка из общего отдела ЦК, к которой приезжала племянница из Волгограда, где продукты продавали по талонам, пожаловалась, что из 10 килограммов картошки, которые полагались “на нос в месяц”, 5 килограммов “на выброс – гнилая”.
– Толь, – сказала она, – когда его снимут-то?
– Кого?
– Да этого, “вашего” главного?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
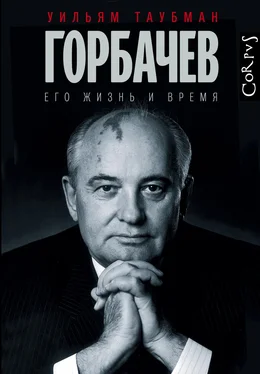
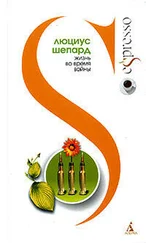
![Энтони Уильям - Еда, меняющая жизнь [Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй]](/books/26098/entoni-uilyam-eda-menyayuchaya-zhizn-otkrojte-tajnuyu-thumb.webp)