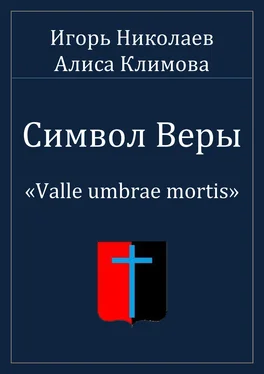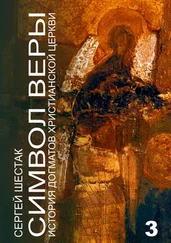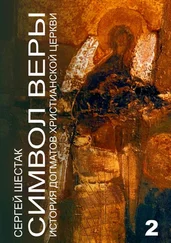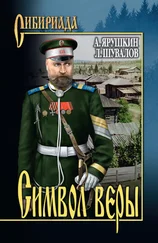Боскэ поднялся на ноги, попутно печально думая, что это больше похоже на «восстал из праха». Мышцы и суставы тянулись, как старая высохшая резина, каждое движение давалось с болью и вообще, кажется, он простудился и на краю лихорадки. После посещения трюмного гальюна мысли понтифика потекли в ином направлении. Гильермо подумал, что воистину - человек привыкает ко всему. И то, что совсем недавно казалось кромешным ужасом, теперь лишь заставляет брезгливо поджать губы.
Совсем недавно... Боскэ вдруг понял, что не может сказать в точности, сколько длится его эпопея. Перестрелка в отеле поблекла, затерлась последующими событиями, так что случилась как будто годы назад. А ведь прошло от силы... Он начал считать, дважды сбился и перешел к сгибанию пальцев. Получалось что-то около недели. Хотя нет, больше. Однако «неделя» - звучало красиво.
Семь дней, за которые Господь сотворил землю и всех ее обитателей. Семь дней, в течение которых Гильермо Леон Боскэ из уважаемого доминиканца пятидесяти одного года от роду обратился безродным беглецом в компании странных и неприятных личностей.
Захотелось вдохнуть свежего воздуха. Пассажиров особо никто не гонял, просто команда не отказывала себе в удовольствии поглумиться над встреченным пассажиром, так что мало кто покидал трюм без крайней надобности. Но Гильермо рискнул.
Путь наверх он нашел на удивление быстро и легко. Холодный ветер сразу подхватил куртку призрачными пальцами, рванул и начал терзать, пытаясь добраться до тела морозными когтями. Пассажиры шептались между собой, что в этот сезон здесь должно быть тепло, даже жарко, однако старому судну не повезло попасть в затяжную полосу непогоды, которую принесло едва ли не из самой Антарктики.
Боскэ подобрался ближе к борту, крепче ухватился за стальные тросы, которые назывались, кажется, «леерами» и служили вместо перил. Железные заусенцы больно кололи ладони, и Боскэ перехватил канаты через ткань длинных рукавов.
Море волновалось . Наверное, то было самое правильное и точное слово. Не шторм и не гладь, а волнение. Когда низкие тучи скачут над волнами, а ветер сбивает пенные шапки с темной воды. Корабль не бросает меж бурунами, а скорее мелко, противно трясет, так, что сердце опускается к диафрагме и там заходится противной липкой дрожью.
Зато воздух был чист и пах солью, свежестью. Как осенний лес, когда листва уже опала и прошел затяжной сумрачный дождик. Временами порыв ветра доносил острый запах дизельного выхлопа, однако это на удивление не портило картину, а лишь оттеняло запах вольной стихии.
Гильермо любил осень и подумал, что, наверное, ему нравится море. Или понравится, если познакомиться с ним поближе и в более пристойных условиях.
А затем твердая крепкая рука схватила его за шиворот и резко дернула назад, отбрасывая на мокрую, отвратительно и болезненно твердую палубу. Боскэ приложился о ребристый металл носом, который сразу потерял чувствительность, онемел.
- Я приказывал тебе сидеть внизу, поп, - раздельно и зло сказал Хольг, взмахнув левой рукой и пряча в кармане правую.
- Из-звините, - выговорил снизу вверх Боскэ, осторожно ощупывая нос. На пальцах осталось несколько алых капель, и Гильермо огорчился, представив собственное лицо, теперь еще более разбитое и неприглядное.
- Скотина, ты понимаешь, что значит «не привлекать внимание»?
Леон немного помолчал, хлюпнул опухающим носом, который на холодном ветру быстро синел, и спросил, все так же глядя снизу-вверх:
- Скажите ... господин Хольг. Почему вы такой злой, недобрый человек?
- Что? - не понял фюрер. - Я плохой, что ли?
- Нет, вы не плохой, - терпеливо, насколько это было возможно в его положении, разъяснил Боскэ. - Вы очень недобрый человек. И мне кажется ...
Леон снова машинально потрогал нос. Доминиканца знобило, крупная дрожь сотрясала пальцы.
- Мне кажется, вы очень несчастный человек. Потому и злой.
Хольг помолчал, кривя губы и по-прежнему не спеша достать руку из кармана. Кисло, зло усмехнулся.
- Чудесная, чудесная поездка, - фюрер продолжал кривить губы, так что речь его казалась почти неразборчивой. - Поп моралист. Скотина беловоротничковая. Козел богомольный...
- Меня нет смысла оскорблять, - Гильермо не без труда поднялся, озябшие пальцы закостенели и стучали по палубе, как высохшие деревяшки. - Я служу не людям, а Ему. Людская жестокость может причинить мне боль, но не обидеть. Вы можете ударить меня, избить. Но не можете оскорбить.
Читать дальше