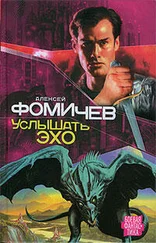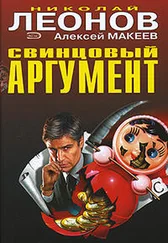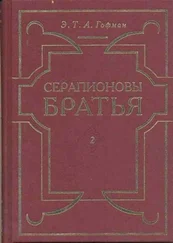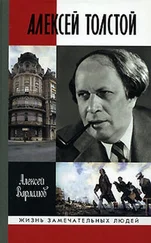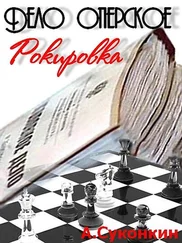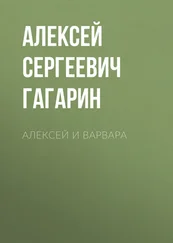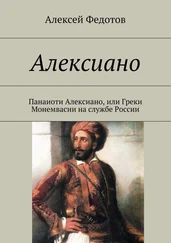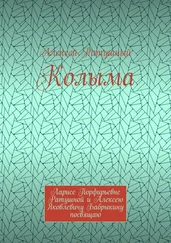Технически-то композиторы очень сильно рванули вперед, могут сделать все что угодно. Вот только музыки не слышно. Силы задействованы мощные, а музыки-то нет, одни названия! А композиторский минимализм – это разоружение. Это опасная идея: вот у тебя было оружие, а ты выходишь безоружным. Но дает тебе немного другие шансы. Так ты просто стреляешь, демонстрируешь, какой ты большой, могучий охотник. Какое у тебя хорошее композиторское оружие. А без него дичь начинает прислушиваться. Понимаете, животное слушает Орфея, а не боится его. Потому что он пришел только с голосом и с арфой, без автомата Калашникова и тромбонов. Голос, арфа, арпеджио, гармония. Все. Орфическое начало – это и есть композиторский минимализм. Начало музыки, а может быть, и ее конец.
– То есть вы сознательно отказываетесь от сложных композиторских приемов?
– Я не то чтобы сознательно отказываюсь… Техническую сторону я не отвергаю, а скорее опускаю. Например, я могу сыграть три пьесы, они от силы звучат минут пять, а я записываю их целый день. И получаются очень тонкие временные деформации. Жесты-то остаются, но они как бы ушли за сцену этого текста. Так что какой тут отказ? Ты выгнал технику в окно, а она вернулась через черный ход. Вот это внимание и чуткость к живому музыкальному моменту были в основе всей поствеберновской музыки. Для меня эти веберновские точечные уколы связаны с мгновением. И сыграть мои нынешние сочинения вроде бы легко, но музыкальный текст получается очень сложным, он будто бы облеплен деформирующими микроэлементами. Сильной модернистской деформации там нет. Совсем чуть-чуть – темповые, динамические, временные сдвиги. Если их выровнять, получится обычное тру-ля-ля. И эти микродеформации заметны, только если текст прозрачный и как бы ослабленный. Тогда они восстанавливают его жизненную силу. А если это будет сложная, запутанная музыка, то ничего не сработает.
Бывает принципиальный отказ от технических приемов, как в музыке Мартынова, например. Там чувствуется, что он вообще все отвергает и переходит на мантрическую систему. А мне кажется, что и сложная музыка должна быть очень простой, то есть восприниматься слухом. Не умственная сложность, а семантическая. Материальной сложности в мире актуальной музыки навалом. А семантической – раз-два и обчелся. Вот играет Баренбойм после симфонии Брамса ноктюрн Шопена. И Брамс гигантский, а ноктюрн маленький, но Баренбойм его так играет, что уравнивает с целой брамсовской симфонией. Именно по качеству семантической сложности. Материально-то они очень разные, куда ноктюрну равняться с симфонией, но на этих весах уравниваются.
Потому что в музыке дело не в величине, а в преображении времени. И две минуты преображенного музыкального времени стоят сорока минут, которые движутся тяжелыми, мало преображенными блоками. А бывает и полтора часа, где время вообще в ступоре. И движется только потому, что на нотной бумаге что-то написано. Конечно, если мы играем по нотам, то все равно время вроде как движется. Но время это не преображенное, а чисто материальное. Сорок минут звучат как сорок минут. А бывает, что сорок минут звучат как пять минут. И наоборот – пять минут как сорок. А вот как сделать так, чтобы звучало минута к минуте, – это совсем особенная история.
Я читал вашу беседу с Мансуряном, где он говорит, что музыка, которая легко пишется, – это путь в никуда. А мне кажется, легкость – это не обязательно плохо. Как и трудность – не обязательно хорошо. Это должно оставаться внутренним делом. Бетховен все время что-то переделывал, но по его музыке это незаметно. А сколько у Пушкина начеркано в черновиках! Но это не входит в текст. А вот когда входит, тогда мы и слушаем не музыку, а сплошную трудность сочинительства. Современная музыка нам все время демонстрирует, как сложно ее было создавать.
– Как вы думаете, можно ли вообще научить сочинять музыку?
– Вот как раз мой плюс, а может и минус, что меня никто не учил. Не было формальной школы. В Москве или Петербурге была, а у нас было какое обучение? Мы приходили в консерваторию на занятия к Лятошинскому, и все было очень демократично. Главное было – сочинить два такта или пять. И показать. Причем мы прежде всего друг другу показывали, это было в первую очередь общение сверстников. А педагог что? Ну, спросит – а что дальше? Или скажет: «Тут бемоль поставь». Не было натаскивания.
Мы были связаны одним ощущением: было как бы само собой ясно, что каждый из нас – композитор, потому что пишет музыку и учится у Бетховена, у Моцарта, у тех, кого любит. А не просто: ты – композитор, потому что ходишь в консерваторию и изучаешь композицию, хотя, может, и не сочинил еще ничего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу