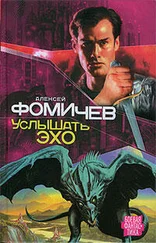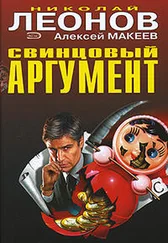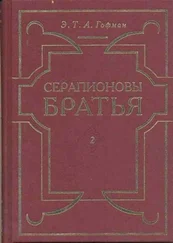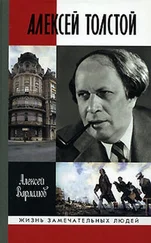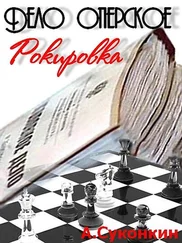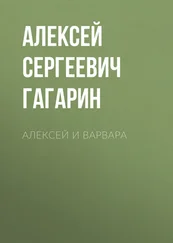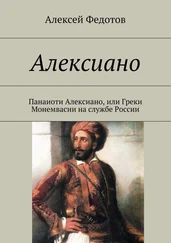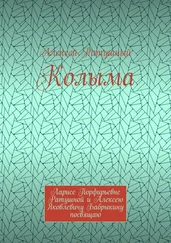«Вестник-1996» исполняется на фортепиано «с абсолютно закрытой крышкой», кроме того, композитор рекомендует играть ее una corda , то есть с левой педалью, приглушающей струны инструмента; все вместе делает звучание пьесы тихим и бестелесным. Партитура полна характерных пометок и пояснений: «туманно», «педаль перехватывается так, чтобы от предыдущего остались отзвуки», «пьеса должна играться легчайшими прикосновениями, очень легкими руками». Термин «вестник» возник из общения Сильвестрова с философом и хранителем архива обэриутов Яковом Друскиным, с которым они сдружились и переписывались в 1960-е. В кругу «чинарей» вестниками называли существ из воображаемого мира, в чем-то похожих на людей, но все же сильно от них отличающихся; общение с ними – такое же необходимое условие для творчества, как вдохновение (см. письмо Якова Друскина Даниилу Хармсу «Как меня покинули вестники»).
Ну а потом начались частные занятия фортепиано, и я стал сочинять музыку, в 1954 году. Кстати, пятьдесят лет спустя я вернулся к этим эскизам, есть у меня такое произведение «Наивная музыка» – это они и есть. В этой музыке есть только то, что я слышал тогда по радио. Ни грамма современной музыки туда не входило. Даже Дебюсси и Равеля, даже Шостаковича. Его я только имя знал. А музыки не слышал. Не говоря уж о западных именах. Чисто исторически мы жили как будто в краю непуганых птиц. Непуганых в том смысле, что современная музыка не напугала. Вокруг звучал XVIII, XIX век. Ну, Глазунов, но это тоже XIX век. Это потом открылись шлюзы: Прокофьев, потом Шостакович. Все мгновенно начало развиваться. И я начал сочинять музыку для себя. У меня была золотая медаль, так что я мог поступать куда угодно. И поступил в строительный институт.
– Почему не в музучилище?
– Так у меня никакой подготовки не было. Я просто по слуху играл – и все. Но теории не знал. Я поступил в вечернюю музыкальную школу. И, помню, когда я им что-то играл, меня комиссия спросила: а вы не сочиняете музыку? Почувствовали, видимо, что я как-то играю не так.
– А что значит «не так»?
– Видимо, не так, как обычно. Помню, я ответил: нет, не сочиняю. Сейчас даже горжусь этим. А когда-то жутко жалел. Но сочинительство музыки было моей тайной. Я не мог просто так сказать: да, сочиняю. Наверное, возраст еще был такой. А потом я играл во дворе в футбол и вдруг узнал, что у одного из дворовых приятелей друг учится в училище. Это меня так потрясло, что я залез на дерево и промедитировал на эту тему целый вечер.
Потом у меня появились друзья из консерватории на почве интереса к Шостаковичу и Прокофьеву. У меня была пластинка Десятой симфонии Шостаковича, в то время о ней много спорили, и я эту пластинку часто крутил. Эти студенты – они были тогда на первом курсе – пригласили меня в консерваторию в студенческий клуб. Я показал какое-то свое сочинение, и произошла удивительная вещь – меня посреди года безо всяких экзаменов перевели с третьего курса строительного института на первый курс консерватории. Мне это до сих пор непонятно. Ведь у меня не было никакой подготовки!
Так что ваш вопрос… Трудно сказать, когда я понял, что я – композитор. Было ощущение, что музыка – это главное дело. Но, поскольку я запоздал, у меня не было никаких возможностей стать пианистом. Так что занятия композицией стали естественным продолжением. Но развивались мы очень быстро. Услышали Прокофьева, Шостаковича, нашего модерниста Лятошинского. Потом по радио поймали Веберна, Стравинского и Берга. Немного, но тогда нам было достаточно крупицы информации. Бывает, что информации много [42] Борис Лятошинский (1898–1964), композитор, дирижер и педагог, один из основоположников модернизма в украинской музыке. Студенты, которым он в 1960-е годы преподавал композицию в Киевской консерватории, станут ядром «киевского авангарда» – в неформальную группу композиторов войдут Валентин Сильвестров, Леонид Грабовский, Виталий Годзяцкий, Петр Соловкин и другие.
– это такой жир, сало информационное, которым ты обжираешься до онемения. А тогда все было очень эвристично, музыка была крохотными семенами информации.
Сейчас я не могу сказать, что я – композитор. Я с удочкой сижу на берегу и ловлю музыку. Я ее не выдумываю. В слове «композитор» есть техническая составляющая – «делать музыку». А я ее ловлю, как бы прислушиваясь. Она уже есть, а я – ловец, охотник. Не с ружьем, а со слуховым аппаратом. В 1960-е был период именно такого технического композиторства. А сейчас произошла редукция, своеобразный композиторский минимализм. Есть минимализм репетитивный. Есть духовный – это, допустим, Веберн, особенно поздний. Когда мало звуков, пространства. А возможен и композиторский минимализм. Он сейчас очень требуется. Сейчас ему самое место.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу