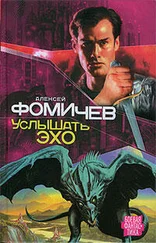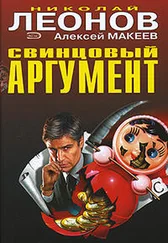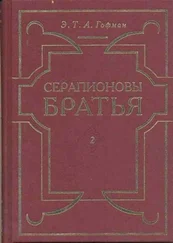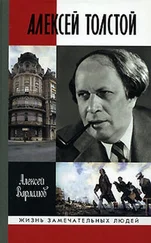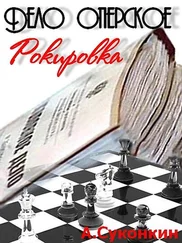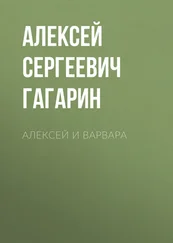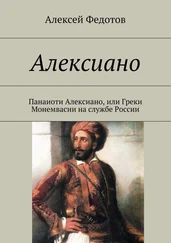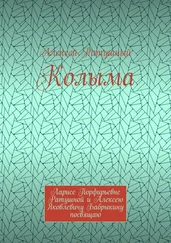Я понял, что словарь музыки для меня действительно важен. В музыке есть слова, которые как бы никому не принадлежат. Нам кажется, что это слова времен Бетховена, а во времена Бетховена думали, что это слова времен Клементи. То же самое и в обычном языке. Мы с вами сейчас говорим на языке Пушкина и Лермонтова. Да, в их время не было слова «компьютер», но основной свод языка изменился не так сильно: ну, что-то по краям вошло – и все. А вот музыкальный язык в XX веке изменился гораздо сильнее. Он менялся и раньше, но не так катастрофически, а за последние сто лет очень сильно рвануло. Если бы мы с вами сейчас говорили на языке Лахенмана, то вы бы меня спросили: «Хсс-фсс-пшшшь», а я бы вам ответил: «Фщщ-хрр».
Причем это обновление сопровождалось претензией отменить все предыдущее. У Шенберга был духовой квинтет, построенный на строгой додекафонии, и он надеялся, что эти мелодии будут петь, как мелодии Чайковского.
– Да, он писал, что в будущем их будут насвистывать домохозяйки.
– Но этого не получилось. Мелодия Чайковского, как бы она нам ни надоела, все равно актуальна. Она – есть. А вот это как ни слушай, как ни люби, а все равно… Этот мир можно любить, но он не способен распространиться за пределы одного человека, который его держит в себе.
Если вернуться к идее музыкального словаря – в его центре оказываются эти самые вечные слова, с которыми я работаю. Причем если в старой музыке они подаются одним образом, то у меня они как будто рождаются заново. В этой подаче и есть что-то от авангардной потенции. Мое утопическое предположение заключается в том, что можно говорить на нормальном музыкальном языке так, чтобы он все равно оставался актуальным. Почему у Пушкина так звучит «Я помню чудное мгновенье»? Потому что все эти слова он словно сочинил заново – и «я», и «помню», и «чудное». Мы к ним привыкли, но когда-то было не так. Можно относиться к словам как к наклейкам, как будто они все в кавычках, и отсюда возникают идеи коллажей и так далее. А можно делать так, чтобы они возникали заново.
Мне кажется, что идею новизны нужно изменить. Временно перестать идти по линии прогресса. Мы уже освоили обертоновый ряд, додекафонию, кластеры, шумы, а дальше уже, как давно сказал Кейдж, просто молчание. По сути, от авангардной музыки останется именно черный квадрат Кейджа. Если к нему относиться не как к анекдоту, то «4'33''» – это прежде всего чуткость к мгновению, к невидимым, неслышимым деформациям. Это дзенская идея: нет никакой высокой истины. Истина есть в самом обычном слове, обычной ситуации, если на них правильно смотреть. А не то что – сидит Кришнамурти в Гималаях… Когда все это подается так монументально, оно как бы нагружает тебя значительностью. А можно посмотреть на пробегающего мимо жука и понять, что истина прямо здесь, а не в Гималаях. Ты находишься в зоне незначительности и вдруг замечаешь, как важное светит через пустяки. В обычной жизни, обычных вещах есть это дзенское знание, хотя и не только в них. Вообще самые значительные истины тривиальны. Любовь, дружба. Быть хорошим, а не плохим. Они потому и стали тривиальными, что значительны.
В музыке эти тривиальные истины снова должны бы возникнуть. Бывает, звучит что-нибудь, и все отмахиваются – а, киномузыка. А послушаешь незаинтересованно – ведь живая вещь, хотя и написана по заказу. А идешь на концерт музыки актуальной – а она мертвая. Все-таки важно это ощущение жизни, а не принадлежность к тусовке, секте или клану. Сектантство важно в самом начале чего-нибудь нового, но к нему вообще-то прилагаются и невзгоды, а когда оно становится вальяжным и хорошо оплачивается… Это уже не то. И вот приходишь, звучит совершенно мертвое сочинение, а публика орет от восторга. Но там не было музыки! Было умение, но поводов орать не было. То есть публика так доверяет, или, возможно, любит конкретного исполнителя, или просто сочинение завершается более-менее убедительно… Но я не о музыке, а о композиторах. Их так много, а музыки так мало. Что с этим делать?
– Как вам кажется, почему додекафония стала самой важной и влиятельной идеей XX века? Она в свое время захватила и вас, и весь ваш круг. Что вас в ней поразило?
– Дело в том, что у додекафонии очень четкие правила. Как у контрапункта. И эти четкие правила в условиях полной анархии, которая началась в XX веке, оказались очень нужны. Это был важный контрудар по всему анархическому. Но со временем мне стало казаться, что по-настоящему она подходит только трем композиторам-нововенцам – Шенбергу, Веберну и Бергу. Ну и, может быть, еще каким-то менее значительным авторам того времени. Потому что все они вышли из поствагнеровской зоны, из позднего Малера и оказались в мире атональности, а додекафония дала им правила, логику, сделала этот мир классическим. Ведь поначалу у Шенберга считалось недостатком то, что у него оставались мотивы – те же, что и у Брамса, у Вагнера, только деформированные. Авангард решил от этого избавиться, чтобы мотивы соответствовали новому атональному миру – они должны были стать настолько деформированными, чтобы уже не узнаваться на слух, стать такой магмой. И тут додекафония, строгая система, положенная на пылающую магму, оказалась кстати. Для слуховой и духовной дисциплины композиторов это было очень важно. И до сих пор важно, думаю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу