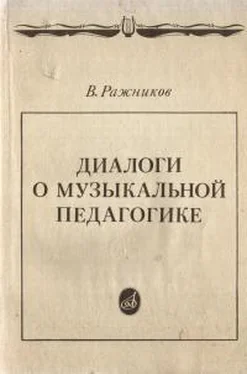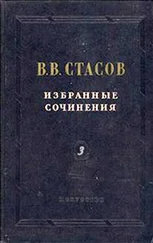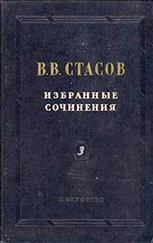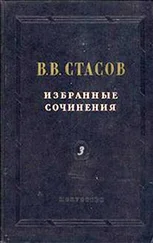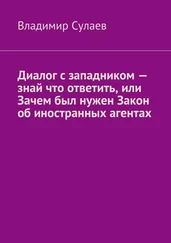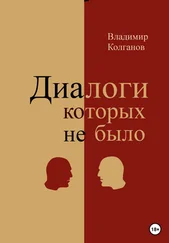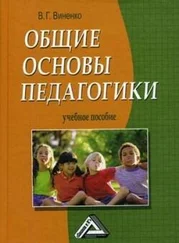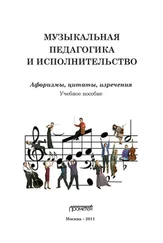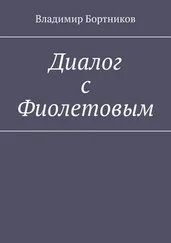Если он, выступая, движим целью иной, чем сам музыкальный замысел, и в тайниках души держит десяток претензий (от размера своей концертной ставки до возмущения, почему на юное дарование, выступающее неустойчиво, а то и просто ошибочно, приходят сразу полтора зала, а на его программу собирается две-три сотни человек и т. д.), то он корыстен, хотя защищен на некоторое время своими регалиями.
В.: Когда, собственно, приходят соблазны и аппетиты музыкантов? Когда престиж становится двигателем развития и целеустремленности — уж не в годы ли ученичества и не педагог ли тут ”закладывает мину” в характер своего ученика?
О.: Маленькие уступки своей чести как-то незаметно приживаются в классе и в жизни педагога. Но вопрос необычайно сложен. Возьмем так хорошо представленный в советской музыкальной педагогике интерпретационный подход. В чем здесь таится опасность? Она приходит тогда, когда педагог — знаток музыки и мастер интерпретации - не хочет ни с кем делить успех своего ученика. ”Мой ученик” - это означает, что я его научил тому, как подойти к произведению, я показал высоту подхода...” Это — моральный уровень.
”Я не люблю, - говорил один сверхвыдающийся педагог, по воспоминаниям его выдающейся ученицы, — когда мои указания не выполняются и ученик приходит на урок, не сделав того, что я советовал ему относительно этой прелюдии Шопена. Ведь я играл, показывал и приводил доводы...”
С этим учеником такой педагог занимается вообще, очевидно, ”на дистанции”, сдерживая свое отношение. Занимается не досконально, не окончательно заинтересованно, экономя свое время, участие, талант ”диагноста музыкальных болезней”, — независимо от таланта ученика. Хотя этот педагог — человек добрый — и признает ученика и не отказывается от него.
Когда же педагог выступает главным образом мастером воспитания художника, испытывая, напрягая, изменяя, закаляя и развивая личность ученика, всю его жизнь в связи с постигаемой музыкой, а уж потом — знатоком музыки и мастером интерпретации, - это нравственный уровень творческой работы.
В.: Есть ли необходимость здесь разводить эти слитые в нашем обиходе понятия ”моральный и нравственный"?
О.: В таком тонком деле, как искусство, видимо, надо. И вот почему. Маленькие компромиссы, частичная нравственность - уступки в альтернативных ситуациях — приводят молодого человека к торжеству морали ”не пойманный - не вор!” Мораль относительна, нравственность абсолютна. Один из героев романа Курта Воннегута ”Колыбель для кошки”, фашистский врач, уничтоживший десять тысяч человек в концлагере, скрылся от суда и решил вылечить такое же количество людей, полагая, что тогда он примирится с действительностью. Даже если бы он вылечил в десять раз больше, — чем он расплатится с загубленными душами и их родственниками?
Я говорю о том, что компромиссы не покроются в структуре одной личности примерным поведением. Они так и останутся субъективным преступлением. И здесь проходит граница между моралью и нравственностью. Homo moralis — человек, выполняющий правила, установленные другими. Моральные правила даны извне, придуманы, разработаны кем-то. Они всегда безупречны, но служат интересам классов, школ, социальных групп и прочее. И в этом смысле мораль часто может быть безнравственна. Своих родителей обманывать нельзя, а чужих — можно.
В.: Разве это правило всеобщее?
О.: Мораль порочна тем, что за выполнение ее правил полагается награда. Она замаскирована: от повышения званий, перемещения по должности до поощрительных поездок на работу за границу.
Нравственность, как правило, порождается самой личностью, идет из ее глубин. Вот два незапятнанных человека. Один из них не берет ничего чужого, потому что знает — это наказуемо, а если ненаказуемо, то можно и присвоить чью-то вещь. Второй не берет потому, что у него вообще нет органа воровства. Он, глядя на какую-то привлекательную вещь, вообще не представляет ее объектом присвоения, наживы, улучшения своего материального положения.
В.: Иногда педагог не только считает, но и убежденно повторяет на педсоветах, что его ученик неспособен, неталантлив. Может ли эта ситуация быть рассмотрена с точки зрения нравственности?
О.: Здесь педагог закрывает каналы развития и своих отношений с учеником и собственно развитие ученика как художника. Одновременно открывается опасность для общения на уровне смирения. Закрывается перспектива для свободы, но открывается для нищенства и покорности.
Читать дальше