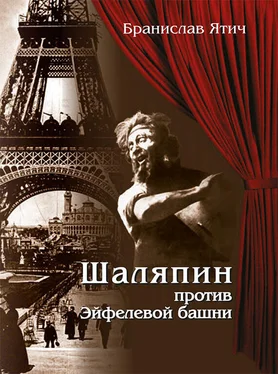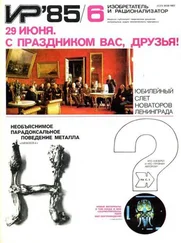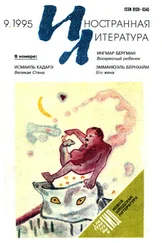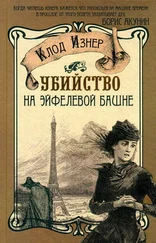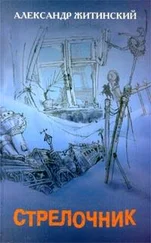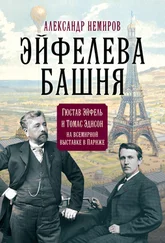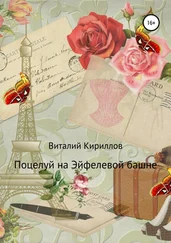Обладая способностью в моменты сценического творчества освободиться от «низшего „я”», Шаляпин умел освобождаться и от своего «личного времени», которое уступало место амальгаме сценического и музыкального времени исполняемого образа.
Это умение «остановить» личное время, известное в магических оперативных системах как ключ к осуществлению влияния в материальном плане действительности, придавало ни с чем не сравнимую убедительность и впечатляющую силу образам, в которые он перевоплощался [264].
Никакое чувство играть нельзя. Всякое чувство так тонко по своей природе, что даже прикосновение к нему мыслью заставляет его спрятаться. Все, что можно сделать, это изучить природу чувства, рассмотреть, что живет в мысли, как проходит физическое движение под влиянием тех или иных реакций и как нарастает разрыв между мыслью и чувством, создавая дисгармонию в человеческом сознании, а, следовательно, трагедию [265].
К. С. Станиславский
Оперные певцы в XIX веке вели себя на сцене так, словно не слышали об известных указаниях, данных актерам шекспировским Гамлетом: они принимали «картинные» позы и бурно жестикулировали. Их жестикуляция носила иллюстративный характер. Шаляпин решительно выступил против такой сценической манеры, топорной, непродуманной и бессодержательной: «Нельзя жестом иллюстрировать слова. Это будут те жесты, про которые Гамлет сказал актерам: „вы будете размахивать руками, как ветряная мельница”. Но жестом при слове можно рисовать целые картины» [266].
Отличительными чертами сценического творчества Шаляпина были невиданная до тех пор убедительность, выразительность и впечатляющая мощь, при максимальной простоте и лаконичности актерских средств, крайней сдержанности жестов и часто упоминаемой скульптурности сценических образов.
«Жест, конечно, самая душа сценического творчества. <���…> Mалейшее движение лица, бровей, глаз – что называют мимикой – есть, в сущности, жест. Правила жеста и его выразительность – первооснова актерской игры. К сожалению, у большинства молодых людей, готовящихся к сцене, и у очень многих актеров со словом „жест” сейчас же связывается представление о руках, о ногах, о шагах. Они начинают размахивать руками, то прижимая их к сердцу, то заламывая и выворачивая их книзу, то плавая ими поочередно – правой, левой, правой – в воздухе. И они убеждают себя, что играют роль хорошо, потому что жесты их „театральны”. Театральность же в их представлении заключается в том, что они слова роли иллюстрируют подходящими будто бы движениями и таким образом делают их более выразительными.
Правда, в сколько-нибудь хороших русских школах уже давно твердят воспитанникам, что иллюстрировать слово жестом нехорошо, что это фальшиво, что это прием очень плохой. Но молодые люди этому почему-то не верят.
<���…> жест есть не движение тела, а движение души. Если я, не производя никаких движений, просто сложил мои губы в улыбку – это уже есть жест. А разве вам запретили в школе улыбнуться после слова, если эта улыбка идет от души, согрета чувством персонажа? Там запрещают механические движения, приставленные к слову с нарочитостью. Другое дело – жест, возникающий независимо от слова, выражающий ваше чувствование параллельно слову. Этот жест полезен, он что-то рисует живое, рожденное воображением» [267].
Жест всегда должен быть законченным. «Если голова вытянулась, высматривая из-за куста кого-то, – замечает Станиславский, – она должна быть вытянутой на самом деле до конца, а не изображать собою вытянутую голову» [268].
Шаляпин достигал совершенства формы сценических образов, исходя из внутреннего содержания музыки и вытекающих из него визуальных впечатлений, доводя их до совершенства, до с кульптурности . Только скульптурность – телесная форма, доведенная до полного раскрепощения, точности и четкости, иными словами, до завершенности – способна передать определенные ощущения зрителю.
Из способности Шаляпина «нарисовать» образ через пение вытекала и лаконичность жеста, который у него никогда не иллюстрировал музыку, но с ней органически сливался. Его жест всегда служил контрапунктом музыке, обобщая ее тематические и ритмические элементы, или же, напротив, подвергая аналитическому и пластическому расслоению данное в музыке обобщение. Метод Шаляпина при этом подразумевал ритмическую взаимосвязь всех организационных элементов: пластически статичных (костюм, грим, манера держаться или поза), остающихся неизменными в течение длительного или краткого периода времени и пластически динамичных , постоянно меняющихся (тембровые краски, способ и характер интонации, мимика, движения, отдельный изолированный жест). Эта ритмическая взаимосвязь элементов экспрессии развивается в сфере выразительности, соответствующей конкретному сценическому образу, и Шаляпин преподносит ее путем характерной пластической композиции образа, позволяющей увидеть его неповторимые личные черты. Таким образом, шаляпинский жест никогда и ни в чем не был произвольным.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу