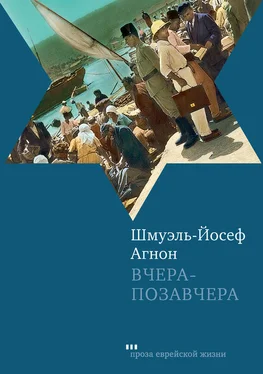Пронеслась перед ним вся его жизнь с того самого момента, как ударил его ногой маляр в Бухарском квартале. Сколько бед, и сколько страданий, и сколько унижений, и сколько побоев пали на него с того дня и сколько их ожидают его в будущем? За что и почему? Встал перед ним запах этого маляра, и возопило у него внутри сердце: «Вот! Этот… стоит совсем рядом, спроси его!» Упал он духом сильнее во сто крат, ведь знал, что, если спросит, не ответит тот ему. Снова уткнулся он носом в землю, чтобы не подбил его дьявол возвысить свой голос; если возвысит он свой голос, поддаст ему ногой маляр, а он не в силах больше выносить новые страдания. Но желание знать истину победило его страх. Тряхнул он ушами и лег на брюхо, чтобы обдумать все хорошенько. Сказал себе Балак: что мне делать? Если спрошу его, не ответит он мне, а если возвышу свой голос, ударит меня маляр ногой. Пасть его задрожала, и зубы его застучали. Затряс он ушами, но не как в первый раз, когда тряхнул ими, как стряхивают блоху с платья, а подобно тому, кто опускает свои уши в знак согласия. Сказал себе Балак: не стану вежливо подходить к нему и не буду поднимать на него голос, но укушу его, и истина капля за каплей потечет из его тела. И уже видел Балак, как правда капает из крови маляра подобно долгожданным дождям, когда Великая Собака кусает небосвод. Но тут же отвел взгляд от Ицхака и перестал о нем думать. Уткнулся головой в землю, и все эти сцены, которые он видел вначале, стушевались. Растерялся он и позабыл все, что собирался сделать. Зажал хвост меж задними лапами, будто хвост один только и остался у него. Наконец, повесил он нос в глубокой печали, как тот, кто понял, что от всех его действий нет никакого толку. Если бы был он в состоянии заснуть, то заснул бы и забыл во сне всю свою боль.
Сон не приходил к нему. То ли от ипохондрии, охватившей его, то ли от запаха, исходившего от маляра и трепетавшего у него в носу. Так или иначе, начало крутить у него в животе подобно крыльям ветряной мельницы, и селезенка тоже доставляла ему немало мучений. Хотел он приложить к животу хвост, как пластырь, который накладывают на больное место. Не стронулся хвост со своего места, меж задними лапами. Сидят себе твои кишки у тебя внутри и делают все, что им заблагорассудится, а ты стоишь и не в силах сделать им ничего. Поднял он голову и осмотрелся по сторонам, как бы ища, на ком выместить свой гнев. Увидел хозяина кисти, увидел, что тот – стоит себе. Снова почернело в глазах Балака, и зубы его застучали. Испугался, что он укусит сам себя, и польется из него кровь, как в тот день, когда ударил его маляр ногой в пасть. Заклокотало у него во рту, и задергался его язык, и наполнился рот горькой пеной, как будто растворилась его горечь и залила ему рот. Приподнялся он и взглянул перед собой в страхе. Увидел, что Ицхак – стоит, и показалось ему, что – улыбается. Качнул Балак головой и задумался: чего ради ему, этому, улыбаться, и над кем он смеется, над существом, презираемым и несчастным, преследуемым и попранным до того, что даже собаки гоев чураются его? Отвел он от него глаза и поднялся, чтобы уйти.
Но кости его – обмякли, и лапы его – ослабли, и колени его – подогнулись, и когти его ног – притупились, и на душу его легла тяжесть, и не было у него сил сдвинуть свое тело и идти. Посмотрел туда и посмотрел сюда в поисках места, где бы он мог укрыться. Принялся копаться в земле, чтобы вырыть себе нору и спрятаться, как полевая мышь, в земле. Поскользнулся и упал на брюхо. Поднял глаза взглянуть, не видит ли его хозяин кисти и не смеется ли над ним. Как только взглянул на него, уже не сводил с него глаз.
Ицхак собирался вернуться домой, к жене, к которой стремился всей душой со страстью молодожена. В это же время сидела Шифра одна дома и удивлялась сама себе, что с того самого часа, как встала она под хупу и по сию минуту, не перестает грезить об Ицхаке. Подняла Шифра глаза – проверить, заметно ли это. Посмотрелась в зеркало на стене и поразилась. Кроме платка на голове, не заметно было в ней никакой перемены. А она была уверена, что превратилась в новое существо. Поправила она платок, и отвела глаза от зеркала, и посмотрела на то место на стене возле зеркала, где висел ее брачный договор. Вспомнила она, как стояла вместе с Ицхаком под хупой и думала, что такой великой минуты не будет больше в ее жизни, теперь видит она, что каждое мгновение – велико. Подошла к плите и проверила, что – с кушаньем, поставленным мамой вариться к сегодняшней трапезе, и поразилась: уже сварилось кушанье, а Ицхак все еще не пришел. Повернулась к окну, и пальцы ее задрожали, как у молоденькой женщины, которой хочется намекнуть мужу, чтобы тот поторопился и пришел. А ты, Ицхак? Ты стоял себе на улице и рассказывал небылицы о собаке, на шкуре которой ты написал слова, которые не должен был писать. Правда, нужно сказать, что даже в эти минуты, стоя на улице, не переставал Ицхак думать о Шифре. И уже видел он, как возвращается к Шифре и как она встречает его со стыдливой радостью; так жена радуется своему мужу и стыдится своей радости. И он тоже радовался и стыдился, радовался своей жене и стыдился своего прошлого. Наконец оторвал он от земли ноги, чтобы пойти домой, к жене. И как только ступил два-три шага, забыл свое прошлое и, нечего говорить, собаку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу