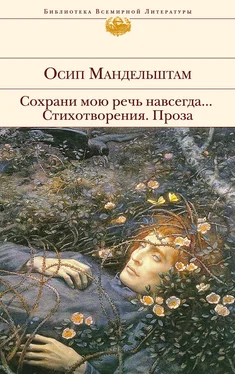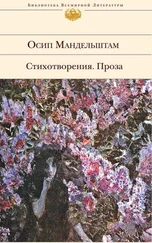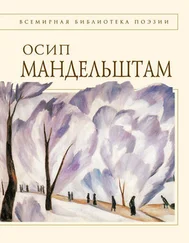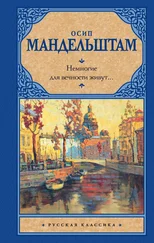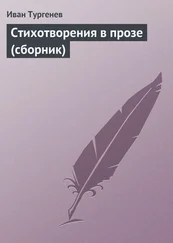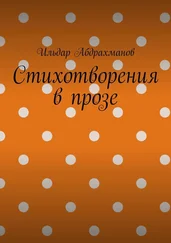В 1921–1922 гг. Мандельштам опять на юге (Киев, Харьков, Ростов, Кавказ), в 1922–1924 гг. поселяется в Москве. Стих. «Умывался ночью на дворе…»написано осенью 1921 г. в тифлисском Доме искусств («в роскошном особняке не было водопровода» – НЯМ), предположительно – по получении известий о смерти Блока и расстреле Гумилева. Центральный образ – соль, как в значении «соль земли», так и «очистительная соль перед жертвоприношением» (на топоре, ассоциации с Раскольниковым). В следующем стихотворении, «Кому зима – арак и пунш голубоглазый…», образы избушки, глиняной крынки, овечьего тепла и пр. соответствуют домашнему, обжитому «эллинизму», как он изображался в статье «О природе слова»; над этой малой жизнью – жестоких звезд соленые приказы (кантовский императив или советская символика?); из этой жизни – два выхода: один для заговорщиков, стилизованных под декабристов или убийц Павла I ( пунш, арак – виноградная водка, с корицею вино – глинтвейн; ст. 19–20 первоначально читались: «Есть соль на топоре, но где достать телегу И где рогожу взять, когда деревня спит?» – ср. «заговорщицкую соль» в последней главе «Шума времени»), другой для поэта, причудливое полуязыческое шествие под фонарем на двор к гадалке, чтобы узнать о будущем прежде, чем решаться на поступок.
Прощание с прошлым – содержание стих. Концерт на вокзале(ср. реалии гл. «Музыка в Павловске» в «Шуме времени»; павлиний крик упомянут, потому что в Павловске был павильон с павлиньим вольером). Противопоставляются всесветный мир гниения ( розы в парниках; черви в небесах – образ из стихотворения Д. Бурлюка «Мертвое небо», ни одна звезда… – из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…»), вышний мир музыки ( Аониды – Музы; рай-Элизиум и не поддающаяся отождествлению милая тень – образы из стихотворений Тютчева «Душа моя – Элизиум теней…» и «Графине Ростопчиной»), между ними напряженный железный и стеклянный мир вокзала ( рокот фортепьянный – образ из стихотворения Анненского «Он и я»). Надежда на будущее – содержание стих. «С розовой пеной усталости у мягких губ…»: ср. концовку статьи «Пшеница человеческая» о нравственном возрождении и воссоединении Европы – миф о Европе, уносимой к счастью Юпитером в образе быка; образы стихотворения – из картины В. Серова «Похищение Европы», где в Европе друзья находили сходство с Н. Я. Мандельштам. «Холодок щекочет темя…» – о том, как стареет тело, приближается смерть: Мандельштаму уже за тридцать, лысеет голова, обреченная на сруб, утихает шелест крови (образ из повести Тургенева «Клара Милич» через стихотворение Анненского «Кошмары», ср. «За то, что я руки твои…»). «Как растет хлебов опара…» – о том, как стареет слово, усыхающий довесок прежде вынутых хлебов, но оно еще нужно времени ( царственному подпаску при пастухе-вечности?), которое ловит его, как колобка в сказке (тоже выпеченного из мучных остатков). Хлебная образность – караваи-причастия (с херувимского стола ), похожие на купола соборов Софии- мудрости, – перекликается со статьей «Пшеница человеческая» и с прославлением домашнего очага в статье «Слово и культура».
Два стихотворения о сеновале, «Я не знаю, с каких пор…»и «Я по лесенке приставной…»(в первой публикации они шли в обратном порядке и понимались легче), развились из одного черновика, но приводят к разным концовкам: в первом розовой крови связь (жизнь и творчество поэта) сливается с сухим звоном природы, во втором, скрепясь, отталкивается от нее. В первом поэт ищет потерянную ( уворованную ) связь с безначальной песенкой мировой культуры, стараясь вырваться из душного хаоса ( тмин – примета «хаоса иудейского» в «Шуме времени»). Во втором он подчиняется древнему хаосу (образ из Тютчева, с намеренным вульгаризмом «хао́с» вместо «ха́ос»; сенной воз – Большая Медведица): он отказывается петь против шерсти мира, упорядочивать его удлиненными звучаниями эолийской (греческой) поэзии (ср. «длинноты» в «Есть иволги…»), из горящих рядов гармонии(?) возвращается в родной звукоряд стихии. Этот выбор между природой и культурой еще драматичнее изображен в Грифельной оде. Она возникла как ответ на последнее стихотворение Державина «Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей…» (полностью см. в статье «Девятнадцатый век»). В первом ее наброске «грифельная» культура учила природу, в окончательном она сама учится у природы. Об ученичестве миров перед зыбкой культурой не может быть и речи (строфа 1); в поисках силы культура в страхе обращается вспять к истокам речи, где вода точит кремень и отлагает сланец для грифельных досок (строфа 2; овечья шапка подсказана портретом Державина в меховой шапке под скалой, работы Тончи, «Цепочка» и «Пеночка» – названия державинских стихотворений). Эта вода учит первобытную, козью и овечью предкультуру (строфа 3). Пестрый день бессилен, но иррациональная ночь (тютчевский образ) сметает его рекой забвенья и сама питает грифель культуры (строфы 4–5; игра в бабки напоминает о гибели углического Димитрия и о сентенции Гераклита «вечность – дитя, играющее в бабки»). Голоса культурной памяти ломают ночь, но лишь у нее же вырывая грифели ; слушаясь этих голосов, поэт перебарывает ночь ее же средствами (строфа 6; стрепет – резкий шум, клекот, ср. название птицы). С двойной душой, дневной и ночной, поэт создает язык с прослойкой тьмы, с прослойкой света и этим преодолевает забвение (строфы 7–8; кремень и вода – символы природы, подкова и перстень – культуры). На державинскую образность наслаивается лермонтовская ( звезда с звездой, кремнистый путь ) и евангельская ( блажен, кто… – из Нагорной проповеди; завязал ремень…; вложить персты – убедиться в попрании смерти).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу