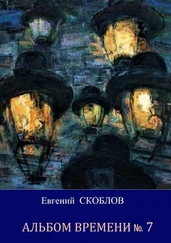Я не сомневался в том, что снова окажусь здесь или в другом месте ссылок. И эту неописуемую тяжесть жизни, к которой привык, как к постоянной боли, буду переносить гораздо легче после отмщения – потому что буду знать, за что сижу, и не только знать, но и торжествовать, как смертельно ранений победитель, дорого отплативший за свою жизнь.
Все эти годы не я не писал писем родным, а, следовательно, и от них не получал. Не сообщил я и о днях освобождения и приезда – потому что ещё не решил, покажусь близким или исчезну, поразив врага в спину под покровом ночи.
Но с каждым часом ощущение блаженства свободы и радости встречи с родными и близкими становились острее, и планы рушились.
В своём решении я не колебался, вот только время исполнения решил немного оттянуть, чтобы побыть хоть немного с теми, кого горячо любил и по ком истосковался до изнеможения. Какими они теперь стали: мать, дети, жена? Может, они потеряли веру в моё возвращение и смирились с горькой мыслью утраты – но нет, неизвестность согревает, теплит надежду.
Свобода! Истинную цену ей может знать только тот, кто был её лишён, и привыкаешь к ней не сразу – хотя и легче, чем к неволе.
Освободившись, я вернулся домой в 47-м году.
Бесконечно долгий путь в обратном направлении тоже был нелёгок. Нелёгок потому, что люди, встречные и попутчики, догадывались или видели во мне бывшего узника.
Я потерянно ощущал на себе их взгляды – сочувствующие, презирающие, настороженные, недоверчивые, и от этого мне становилось тяжело. Потому я старался забиться в какой-нибудь угол или влезть на самую верхнюю багажную полку – в особенности, когда пассажиры раскрывали свои саквояжи, корзины, чемоданы со снедью.
Конечно же, я истосковался и по домашней пище и, как всякий полуголодный человек, остро ощущал запах съестного.
И, как поётся в песенке, «ехали мы ехали, ехали мы ехали и, наконец, приехали…»
В родной город я постарался прибыть вечерним поездом. Поздно вечером, войдя с бьющимся от волнения сердцем в знакомый двор, я тихо постучал в двери.
– Кто там? – я услышал голос жены и дрожащими губами прошептал:
– Свои.
Зайнаб, видимо, не услышала и громко повторила:
– Кто там?
– Это я, Гирей.
Она открыла не сразу, но когда, наконец, дверь распахнулась, я почувствовал, что она, буквально как подкошенный столб, свалилась не меня. Я подхватил её и, можно сказать, внёс в комнату.
К нам кинулись, выбежав из спальни, дети – дочь кинулась к матери, а сыновья – оба – уставились на меня в испуге.
– Папа! – вдруг вырвалось из уст старшего. Он бросился ко мне на шею, за ним второй.
– Папочка, неужели это ты? Папа! Папа вернулся! – закричала дочь, не выпуская из рук рыдающую мать.
– Бабуля, бабуля, папа приехал, – закричал младший, бросившись в спальню.
Моя бедная старушка, превратившаяся в мощи, не в силах была подняться. Я подошёл к ней, стал на колени, прильнул к высохшей груди, а потом долго целовал её жилистые, морщинистые, узловатые руки. Она, улыбаясь, гладила моё лицо шероховатой ладонью и шептала:
– Слава Аллаху! Слава Аллаху! Дождалась светлого дня! Теперь я могу со спокойной душой переселиться в мир вечного покоя.
В ту же ночь мать скончалась. Это случались где-то около полуночи.
– Умерла! Омрачила мою радость! Дети мои! Спешите, зовите родных, соседей! – заголосила жена, заметалась по комнате, рыдая.
Я удержал сыновей и дочь:
– Не надо никого звать, не поднимайте шум, потерпите до утра, не стоит беспокоить людей – это горе, прежде всего, наше.
– Позовите хотя бы старика Исмаила, пусть прочтёт заупокойную, она была верующая, надо соблюдать все обряды, – не унималась жена.
– Успеем. Я хочу сам один побыть возле матери, оставьте меня с ней до утра, уйдите все, отдохните, завтра предстоит тяжёлый день.
С трудом мне удалось удалить детей и жену. Я не хотел, чтобы сыновья мужчины увидели, как плачет отец.
А слёзы душили, они клокотали во мне, как кипяток в переполненной чаше. И полились они бесшумными, неудержимыми струями, лились долго – всё, что скапливалось в моей душе за все эти годы страданий и мук.
Слёзы, когда человеку становится невмоготу – они, наверное, и в самом деле вымывают ту черную горечь, неописуемую тяжесть, которые могут довести человека чёрт знает до чего…
Дав волю слезам впервые за много лет и выплакавшись, я сразу почувствовал облегчение и расслабленность.
Я видел смерть не раз – там, в ссылке, в суровом молчании застывал, склонив обнажённую голову перед её непобедимым величеством и не только не сожалел, не скорбел об усопшем, а, напротив, даже рад был, что смертный избавился от мук земных. Но здесь, когда беспощадное остриё «косы смерти» коснулось самого дорогого мне человека – матери – горю моему, казалось, не будет предела.
Читать дальше
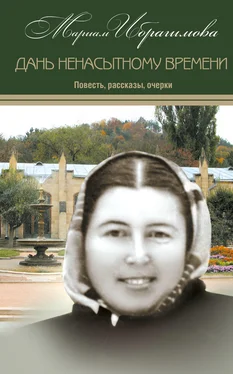






![Всеволод Сысоев - Удивительные звери [Повесть, рассказы, очерки]](/books/397920/vsevolod-sysoev-udivitelnye-zveri-povest-rassk-thumb.webp)
![Михаил Алексеев - Да поможет человек [Повести, рассказы и очерки]](/books/413480/mihail-alekseev-da-pomozhet-chelovek-povesti-rassk-thumb.webp)
![Сергей Борзенко - Огни Новороссийска [Повести, рассказы, очерки]](/books/414124/sergej-borzenko-ogni-novorossijska-povesti-rassk-thumb.webp)