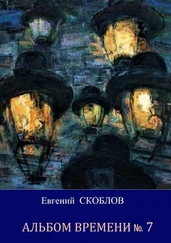И даже будучи в тяжёлом состоянии, он находил в себе силы, чтобы забавлять меня импровизированным спектаклем или смешной историей. Я всяко старался поддержать в нём дух и надежду на выздоровление.
Но злому року угодно было распорядиться иначе. В ту последнюю ночь он попросил меня не уходить. С разрешения дежурного фельдшера, который сказал, что он – безнадёжный, я остался.
Иван Семенович, поглядев на меня затуманенным, каким-то отсутствующим взглядом, прошептал:
– Худо мне, брат. Наверное, «амбец котёнку».
– Да что ты, Ваня, ерунда, это, видимо, кризис. Бывает такое, ты даже можешь впасть в беспамятство, а потом словно возродишься.
Иван Семёнович закрыл глаза, и мне показалось, что он уснул. Через несколько минут он медленно, словно силясь, поднял веки и прошептал:
– Немеют, стынут руки, ноги будто не мои, но мне стало как-то легко, и кажется – на крыльях я опускаюсь в какое-то пространство.
И, словно боясь оторваться от мечты, Иван Семёнович крепко ухватился за мою руку, захрапел, затем, сделав глубокий вздох, застыл с широко раскрытыми глазами.
Это была смерть. Охваченный необъяснимым страхом, я рванулся с места и выбежал из палаты.
Было где-то около полуночи. Долго стоял я у дверей лагерной больнички и смотрел на тёмное звёздное небо, грустную луну, и хотелось мне взвыть волком и в этом отчаянном вое выдавить из груди всю тоску и тупую душевную боль. Особенно в эту минуту я осознал тяжесть утраты преданного друга.
«В жизни трудно найти истинного друга» – гласит кавказская поговорка. Для меня он нашёлся без труда, случайно, на самых честных беспристрастных началах, на основе взаимного уважения, которое со временем сроднило души, скрёпленные серыми буднями лагерной жизни.
Глотая горький ком, подкатывающийся к горлу, я сетовал на судьбу за то, что она поторопилась отнять у меня и этого единственного друга на этом далеком Севере.
Удручённый смертью Ивана Семёновича, где-то далеко за полночь вошёл я в барак, сел на свою постель и просидел до утра, не смыкая глаз.
Как я уже говорил, кроме старушки-матери у Ивана Семёновича никого не было. Покойный не раз говорил мне: «…Если со мной что-нибудь случится, не сообщай ей. Пусть старушка живёт надеждой, это гораздо лучше, чем безнадёжность».
Я оказался единственным человеком, который мог оплакивать смерть и скорбеть о нём.
До истечения срока оставалось 5 лет. Надо было во что бы то на стало выжить ради встречи с родными, близкими, ради того, чтобы ещё раз побывать на родине и отомстить Гамзату.
Я испытывал мучительную тяжесть полного одиночества среди массы людей. Мне не хотелось ни с кем заводить дружбу ибо я был уверен или просто мне казалось, что такого друга, как Иван Семёнович, не найти.
По своему характеру, несмотря на общительность с окружающими, я с трудом сближаюсь с людьми, а уж коли сближусь, с трудом расстаюсь.
Помню, когда я был мальчишкой, у меня была собака Див, из породы кавказских овчарок.
Я принёс её щенком и не расставался с ней. Див сопровождал меня в школу, приходил встречать ко времени окончания уроков. В ожидании меня садился неподалеку от ворот и поглядывал на ребят, гурьбой вываливающихся из дверей. Вытянув морду, видимо, втягивая воздух, он не отрывал глаз от ворот и терпеливо ожидал моего появления. Иногда, балуясь, я нарочно прятался от своего четвероногого друга, желая испытать, уйдёт он, в конце концов, или нет – но Див упрямо ждал. Если же он случайно обнаруживал меня за дверью или забором, тут же поднимался, бежал ко мне и, недоумённо глядя в мои глаза, извинительно скаля зубы, вроде бы хотел спросить: «что все это значит?»
Где бы мы не играли, куда бы не уходили в воскресные дни и каникулярное время, Див непременно сопровождал меня и был участником наших игр и шалостей.
И вдруг однажды, зимним утром, нашёл Дива мёртвым в конуре. Переживанию моему не было предела. С трудом отсидел я в тот день на уроках, а после окончания мы с друзьями и соседским мальчишками завернули Дива в мешок, вывезли за город и похоронили в лощине. С тех пор я не заводил собак, боясь привязаться и снова испытать горечь утраты. Ведь собаки живут 10–15 лет.
В лагерях, где серые стандартные будни ползут медленно, как грозовые тучи по безветренному небу, не только годы, но и месяцы кажутся бесконечно длинными.
Но как бы там не было, а время шло. И чем ближе становился последний день срока, тем тягостнее казалось чувство нетерпеливости. Отбыв срок, как говорится «от звонка до звонка», я не почувствовал той естественной радости и понятного облегчения, которые испытывает человек и, наверное, все живые существа, вырвавшиеся на волю.
Читать дальше
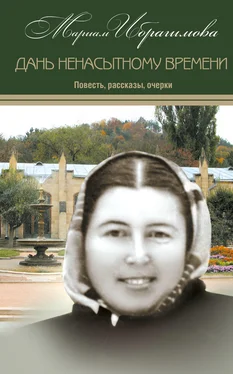






![Всеволод Сысоев - Удивительные звери [Повесть, рассказы, очерки]](/books/397920/vsevolod-sysoev-udivitelnye-zveri-povest-rassk-thumb.webp)
![Михаил Алексеев - Да поможет человек [Повести, рассказы и очерки]](/books/413480/mihail-alekseev-da-pomozhet-chelovek-povesti-rassk-thumb.webp)
![Сергей Борзенко - Огни Новороссийска [Повести, рассказы, очерки]](/books/414124/sergej-borzenko-ogni-novorossijska-povesti-rassk-thumb.webp)