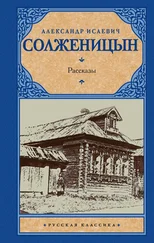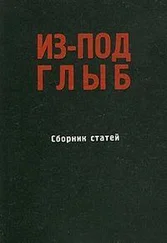Обоз опять остановился. Лошади задней упряжки, перебравшиеся мордами в телегу Дашкина, недвижно уткнули храпы в солому у самого бока Глеба, но время от времени чутко вспрядывали ушами, словно тоже слушали и удивлялись.
– Это очень интересно. Расскажите. Вы что ж – подпольщиком были?
– Не – е, я в подпольи не хоронился. Дашкин не из таких. Я открыто революцию делал. Ещё в девятьсот семнадцатом первый в нашем уезде помещика убил.
– Что – зверь был?
– Все они звери были. Эксплофтаторов хороших не бывает. Ты – учитель, должон знать.
– Как же вы его убили?
– Чего – как? Нашёл интересного! Человека убить – что пальцы обо…мочить. Пришли к нему вдвоём вечером, говорю – доложи, от Совдепа. Лакей мне: мы таких не приймаем. А у меня трёхлинейка за спиной, у солдата беглого купил. Ты что, говорю, гад, Керенскому продался? Отодвинул его в стенку, топ-топ, по коврам, лестница, комната, зал. Сидит у очага, по-господски камин называется. Нахмурился: тебе что надо? кто тебя пустил? Он как министр был – высокий, морда такая розовая, круглая, а из щёк волосы седые растут густо, как у кота. Вазочки везде стоят, не притронься, граммофон музыку играет. Граммофон видел когда? так патефоны раньше назывались. На диване жена сидит, вышивает, высокая тоже, нотная барыня была, а детишки коляску по полу возят. – Так, говорю, и так, от Совета крестьянских депутатов, два часа вам сроку – освободите дом. И винтовку скидываю, затвором чук-чук. Жена как ахнет, детей загородила…
Передние подводы быстро тронулись, сворачивая с дороги влево. Лошади Дашкина тоже дёрнули, и из догоравшей цыгарки крупные красные крохи махры высыпались на ватные брюки Мирона. Дашкин быстро подобрал ноги, захватил возжи, вскочил в телеге на ноги, смахивая одной рукой огонь.
– Э-ка, э-ка, вату на ветру только гляди – не потушишь.
И стал всматриваться по ходу вперёд.
– И что ж дальше?
– Дальше, вот, овёс будем набирать, на’ б лишних пару вёдер захватить.
Набор овса и был причиной остановки обоза на полночи. Светил огонь двух фонарей. Среди поля, на колхозном току, умолот овса был огорожен кой-как пришитыми к кольям досками, к тому месту чередом подъезжали все телеги обоза, в ящики сыпали овёс из расчёта два ведра на лошадь, колхозный кладовщик громко отсчитывал вёдра, а Забазный чуть в стороне на своём жеребце выступал из мрака недвижным изваянием рыцарских времён, ремешок всё так же был пропущен ему под подбородок, а плащ спускался с его плеч на спину лошади.
– Семьдесят пять! – отсчитывал кладовщик. – Семьдесят шесть!
Дашкин быстро мотался от закрома к телеге.
– Куда девятое сыпешь? – загремел Забазный.
– Семьдесят семь! – отсчитывал кладовщик, он не смотрел, в какую телегу больше-меньше.
– Как девятое, товарищ Забазный? Седьмое! Ей-бо!
– Дашкин? – узнал Забазный. – А врёшь?
– Я овсяной каши не ем, товарищ Забазный, живот не принимает. Не верите – назад пересыплю, считайте.
– Семьдесят восемь!
– Ну, сыпь восьмое, не сбивай человека.
Дашкин зачерпнул с верхом десятое, передал пустое ведро следующему и протянул телегу.
– А почему на привязи лошадей нет?
– Обротьев нет, товарищ Забазный! – крикнул ему Дашкин уже из темноты.
– А под соломой поищем? – ещё донеслось до них, но Дашкин уже прихлестнул лошадей и по нетореной колоткой полевой тропе погнался за ушедшими передними.
– У, с-сволюга! – злобно выговаривал Дашкин, не известно: о начальстве колонны или о ленивой правой лошади.
Трясясь на подскоках, Нержин всё же спросил:
– А в каком чине Забазный? Он кадровый военный?
– Хто? Забазный? Казак, язви его душу, контра собачья, как их советская власть терпит – я удивляюсь.
Подвода догнала ушедших, набежали и сзади те же четыре лошади, что раньше, – и снова потянулись, уже по степному большаку, всё то же размеренное движение, всё с тем же скрипным стоном.
– Казаки и красные бывают, – возразил Нержин. Он хорошо помнил в 1936 в Ростове праздник возврата казачеству его формы и звания{269}. А прежде того их кляли только контрами.
Дашкин обернулся и почти шёпотом сказал:
– Хто красные? Все белые, подлюки. Мало мы их постреляли, гадов. Вот этой рукой если я сто белобандитов не расстрелял – отруби на… прочь.
– А откуда вы его знаете?
– Забазного? Хто ж его не знает, храпоидола? Завскладом райпотребсоюза.
Дашкин отвернулся, поднял воротник и нахохлился.
А Нержин только рот раскрыл от такого развенчания. Потеплей запахнувшись, он прилёг на соломку и задумался о странности судеб: универсант – обозником, революционер – зашмыганным кучером, а казак с повадками конквистадора – кооперативным делягой. Потом все эти мысли смешались, и он опять уснул, но спал плохо – едко пробирал мороз осенней ночи. Слышал он, как переезжали какую-то воду, Дашкин разговаривал с лошадьми, уговаривая их пить, а то потом не будет, толкал Нержина, набирая из-под его бока овса, потом опять ехали с тем же равномерным постуком, – и в зелёном лунном предрассветьи Нержин проснулся вовсе, до боли скованный холодом. Необъятная степь избела серебрилась инеем в свете ущербного месяца и светлевших небес. Чуть отбеливали нитками инея хвосты и гривы лошадей и соломинки, не попавшие под его лёжку. Обоз двигался медленно, Дашкин шёл сбочь телеги и выглядел потрёпанным, измождённым. Нержин тоже соскочил, но на другую сторону – ему не только не хотелось разговаривать, а даже думать не хотелось. Ни крохи не осталось в нём той убаюканности вечера, когда невзгоды кажутся интересными, а несчастье – обходимым. В трезвой безжалостности утра человека, брошенного на дно жизни, щемит безнадёжность совершившегося. Нержин шёл и думал только о том, как согреться и что он будет сегодня есть. Люди, и сам он, казались ему каким-то жалким отрепьем, а морды безчисленных лошадей – слюняво-противными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/books/90723/aleksandr-solzhenicyn-russkij-vopros-na-rubezhe-veko-thumb.webp)