Ну и что делать после этих огненных и железных бурь? Пылать, стенать, стать охапкой хвороста, пылающим факелом, почернеть, сгореть, медленно покрываться пылью, потом землей, семенами, зарастать мхом, оставить после себя лишь челюсть и зубы, стать, наконец, крошечным холмиком, который еще цветет, но уже ничего не укрывает.
С самого начала, насколько я имел возможность ее наблюдать, палестинская революция не стремилась овладеть территорией, вернуть утраченные земли, огороды или фруктовые сады без ограды, это было крупное протестное движение, кадастровый спор, захлестнувший весь исламский мир, причем речь шла не только о территориальных границах, а о пересмотре и, возможно, отрицании теологии, умиротворяющей и нагоняющей сон, как бретонская люлька. Эта была мечта, но еще не твердое решение фидаинов – раскачать, сдвинуть с места двадцать два арабских народа, пойти как можно дальше, чтобы вызвать у всех улыбки, сначала детские, потом идиотские. Америка, первая из намеченных целей, изобретала всякие чудеса. Палестинская революция, полагая, будто шествует с высоко поднятой головой, на самом деле шла ко дну. Страсть к самопожертвованию – ведь N не мог вернуться в Европу – это своего рода опьянение, которое мешает жертвовать собой, когда бросаешься в пропасть не для того, чтобы спасти тех, кто уже бросились туда раньше, а чтобы последовать за ними, а главное, когда уже ясно видишь ужас собственной гибели, явленной не в отраженном свете, а в реальности.
Чуть выше, когда я говорил о почтительности, почти угодливости – в словах, поклонах, жестах – фидаинов перед представителями палестинской аристократии, я обещал, что вернусь к Самие Сольх.
На юге Ливана мне уже приходилось видеть раненых коммандос на белых больничных простынях, смущенных видом пожилых женщин с накрашенными глазами, губами и скулами, громогласных и звенящих при каждом своем движении золотыми браслетами, золотыми цепочками, золотыми колье, золотыми серьгами, золотыми подвесками, и этот звон казался похоронным.
– Этот ваш звон их или разбудит или убьет, – сказал я одной из них.
– Скажешь тоже. Мы много жестикулируем, как все средиземноморские народы, мы ведь марониты и финикийцы. Мы, конечно, пытаемся сдерживаться, но когда видишь столько страданий, подавлять жалость не получается, вот наши украшения и звенят, тут уж ничего не поделаешь. Мне многие говорили, что никогда раньше не видели таких богатых и красивых. Пусть, по крайней мере, глаза этих больных наполнятся счастьем.
– Не спорь с иностранцем, Матильда. Пойдем к ампутированным.
Позднее мне слишком часто придется наблюдать вблизи пожилых дам, все, что осталось от известных палестинских семейств.
Рагу из гусятины – возможно, эта метафора даст представление о красивой пожилой палестинке? Лицо и манеры богатых дам наводили на мысль, что не жарка в кипящем масле, а, скорее, томление на медленном огне округлили скулы, придали коже розовый оттенок; горести их народа смягчили и отшлифовали черты этих женщин, пропитанных несчастьем, как гусь становится сочным, пропитавшись собственным жиром. Они были – особенно одна из них – восхитительно и эгоистично нежными, как будто их нежность нужна для того, чтобы отстраниться от жестоких невзгод. Медленно томиться на слабом огне, чтобы стать вкуснее. Им было известно про резню в Шатиле так же, как и про курс золота и доллара, но их осведомленность была сродни изнанке шерстяного или шелкового ковра, когда об узоре смутно догадываешься по узелкам и петлям с обратной стороны; да, они знали про страдания, но до них все доходило словно через какой-то буфер, может, через платье столетней или стодвадцатилетней давности, расшитое мертвыми пальцами слепой вышивальщицы. Они культивировали свою учтивость, чтобы она служила им украшением. Так, если бы разговор случайно зашел о Венеции, они бы никогда не произнесли фамилию Дягилева, а стали бы говорить о Лагуне, о Большом Канале, о стекольных мануфактурах на острове Мурано, о похоронных процессиях на гондолах…
– Так хоронили Дягилева, – сказали бы вы.
– Я видела, как они проплывали, с балюстрады отеля Даньели.
Со своего катафалка они разглядывали свой народ через перламутровый бинокль. С этого ложа и из окон принцессы с достаточно крепкими – чтобы носить золотые цепочки – запястьями созерцали сражения, и печаль придавала их взгляду особую манерность. Из окна переносного дома я смотрел на море, на виднеющийся вдали Кипр, я тоже ждал, когда начнутся сражения, но все же не стал такой постаревшей принцессой с сочной плотью. Это сходство меня никогда не смущало; слащавые черты и приторность, обволакивающая аристократическое потомство Али, мне никогда не нравились; однако, как и эти дамы, я из окна или театральной ложи, словно через перламутровый лорнет рассматривал палестинский мятеж. Как же далеко я от них был – живя среди фидаинов, я находился по эту сторону некой границы, я знал, что меня оберегает, нет, не моя кельтская внешность, не защитный слой гусиного жира, а сияющая другим светом надежная броня: моя не-принадлежность к этой нации, к этому движению, с которыми я так и не слился. Мое сердце было там, мое тело было там, мой разум был там. Все по отдельности было там: но не моя вера полностью, и не я сам весь целиком.
Читать дальше







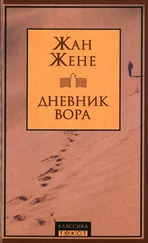


![Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-thumb.webp)