– У них имелись сообщники в Порте…
– Разумеется. А англичане, которые были хотя и антисемитами, но реалистами, занимались обустройством европейского поселения по соседству с Суэцким каналом, чтобы удерживать восточный Аден и присматривать за ним.
Стенные часы из эбенового дерева пробили полночь. Шел шестнадцатый час восьмидесятилетия османского офицера. Омар вежливо поинтересовался, не боится ли он обидеть своими разговорами иностранца. Старик взглянул на меня, как мне показалось, благожелательно.
– Ни в коей мере. Вы прибыли из страны, которая и после моей смерти останется у меня в сердце: страны Клода Фаррера и Пьера Лоти.
Каждый день и каждую ночь смерть проскальзывала рядом: вот откуда это ажурное кружевное изящество, по сравнению с которым все эти танцы под аплодисменты кажутся такими неуклюжими и тяжеловесными. Не знаю, как животные, а все предметы становились родными.
Когда потери личного состава исчисляются сотнями и тысячами, смерть не означает здесь ровным счетом ничего, а главное – невозможно почувствовать двойную, тройную, четверную печаль, когда погибали четверо друзей, и когда погибали сто, печаль не становилась стократ сильнее. Смерть какого-нибудь фидаина, которого ты любил, каким странным бы это ни казалось, позволяла ему жить среди нас еще интенсивнее, представать перед нами с прежде не замечаемыми мелочами и подробностями, говорить с ним, слушать, как он отвечает веско и убедительно. Из-за того, что время жизни оказалось таким кратким, эта единственная жизнь фидаина, теперь уже мертвого, приобретала поразительную плотность. Если у какого-нибудь двадцатилетнего фидаина были планы на завтра – помыться, отправить написанное накануне письмо… – теперь мне казалось, что к его неосуществленным планам примешивался дурной запах, запах разложения: ведь планы мертвого пахнут тлением.
Но зачем им нужна была моя белая голова со светлой кожей, седыми волосами, небритой бородой, эта белая, розовая, круглая голова? Может, нужен был свидетель? Мое тело не шло в счет: оно просто несло эту голову: круглую и белую.
Все было гораздо проще: вместо ребенка Черные Пантеры нашли всеми покинутого старика, и старик этот оказался белым. Человек наивный во всех смыслах, я был настолько несведущ в американской политике, что слишком поздно понял: сенатор Уоллес был расистом. Вероятно, я пытался осуществить старую детскую мечту, в которой иностранцы – в сущности, больше похожие на меня, чем соотечественники – дарили мне новую жизнь. И это детское ощущение наивности и простодушия пришло ко мне благодаря мягкости пантер, отнюдь не полученной мною как некая привилегия, но которой я пользовался, ведь она, как мне казалась, была самой сущностью Пантер. Мне, старику, вновь стать приемным ребенком было очень приятно, поскольку благодаря этому я познал настоящее покровительство и внимательное, сердечное воспитание, ведь Пантер можно было узнать по их педагогическим талантам.
Покровительство Пантер было таким надежным, что в Америке я ничего и никогда не боялся – разве что боялся за них самих. И, словно по волшебству, белая полиция и белая администрация не придиралась ко мне. В самом начале, еще до того, как меня принял под свое покровительство Дэвид Хиллиард, когда мне хотелось увидеть Гарлем, меня всегда кто-нибудь сопровождал, до того самого дня, когда я один отправился в какое-то бистро для черных, где обслуживали только черных: вероятно, это было что-то вроде борделя, куда с черными парнями приходили красивые девушки Я заказал кока-колу. Мой акцент и построение фразы вызвали всеобщий смех. В самый разгар ссоры с каким-то типом и хозяином бистро двое посланных на поиски Пантер отыскали меня «в городских джунглях».
Испуганные при виде оружия белые, кожаные куртки, непослушные волосы, слова и даже тон голоса, одновременно злобный и нежный: Пантеры так хотели. Они сами выбрали такой образ, театральный и драматический. Театр – чтобы разжечь драму и потушить ее. А драма разыгрывается ими для белых; они сами хотели, чтобы этот образ, повторенный стократно в прессе и на экране, неотступно преследовал белых, и угроза оказалась не пустым звуком, потому что ее подкрепляли реальные смерти: они стреляли, и вид оружия, направленного на цель, заставлял стрелять копов. Если сказать, к примеру, что «поражение Пантер связано с тем, что они присвоили себе «товарный знак» до того, как стали осуществлять реальные дела в подтверждение этого знака» (это я вкратце излагаю вопрос, заданный мне газетой «Рампар»), то потребуется много примечаний. Например, что мир можно изменить не войнами и человеческими смертями, а другими средствами. «Власть находится на конце оружейного дула», возможно, а может быть, и на конце тени ружейного дула. Изложенные в десяти пунктах требования Черных Пантер и примитивны, и противоречивы. Вероятно, это заслонка, за которой происходит некий процесс, причем, процесс вовсе не такой, каким оказался бы, будь он выражен четко и понятно. Вместо независимости: реальной, территориальной, политической, административной, требующей конфронтации с властью белых, произошла метаморфоза чернокожего. Из невидимого он сделался видимым. И этой самой видимости удалось добиться разными способами. Ведь когда мы говорим «чернокожий», то имеем в виду не цвет: на эпидермис с более или менее плотной пигментацией он может накинуть цветные одежды, праздничные одежды, и это станет его обрамлением, золотым, лазоревым, розовым, сиреневым, а черный цвет, более или менее черный, требует определенной договоренности с другими тонами, пастельными или яркими, во всяком случае, привлекающими внимание, и это обрамление не может скрыть разыгрывающуюся драму, потому что глаза все равно видят и скрыть ничего невозможно.
Читать дальше







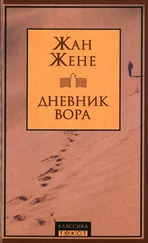


![Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-thumb.webp)