– Завтра придет главврач, – сказала Грета, – черт бы его побрал!
– Нам ничего не будет. Я отработала две смены на кухне, а ты помогала садовнику.
Работа в саду свидетельствовала о высоком доверии, этой должности желали все, за исключением тех, кто мечтал выписаться, а таких было немного.
– Завтра явится Курт Третий, – со смехом произнесла Лизе.
– Тебе придется взять его на себя, – серьезно заявила Грета. – Ты больше не можешь продолжать отказываться от них всех. – Последний, кажется, пролежал в рассоле полгода.
От одного только воспоминания о нем Грета залилась смехом. Это был невысокий, полный и лысый банковский служащий, который намеревался продать летний дом Лизе, на выручку купить облигации, а драгоценного мальчика отправить в школу-интернат. Внизу, в ресторане «Сковли», он, как и первый кандидат, угощал кофе и бутербродом с сыром, по-отцовски объясняя Лизе, что не стоит забивать свой маленький мозг всякой ерундой, касающейся денег. Он обо всем позаботится, пока она будет лежать и поправляться. У него отвисла челюсть, когда он узнал, что Лизе передала ведение своих хлопотных денежных дел социальному работнику и ей больше не приходилось забивать свой маленький мозг ничем другим, кроме сотни крон, выделяемых в неделю на карманные расходы.
Объявление было делом рук Греты. Когда выпадало несчастье потерять мужа, несомненно требовалось найти нового и предъявить ему требования, не скрывая собственных преимуществ. Лизе, вероятно, перечислила их все и лишь помогла Грете с написанием трудного слова «литература». Длинное и заметное объявление, разумеется, служило только предлогом, чтобы заполучить Курта Растерянного, который просочился бы сквозь потолок в комнату Вильхельма, – так переговорщики и разрушители были лишь предлогом и сами по себе не представляли никакого интереса. Так вы и я – лишь предлог для роковых взаимодействий между совершенно незнакомыми нам людьми, с которыми мы, возможно, никогда не встретимся. Только Богу известны взаимосвязи, и ему приходиться потакать разного рода веселым или злым прихотям, чтобы не умереть со скуки на своем высоком небе.
Грета, затушив сигарету, отправила неодобрительный взгляд Ван Гогу с отрезанным ухом на стене (или, точнее, совсем без уха).
– Этот – единственный из всех, – задумчиво произнесла она, – кто ни словом не обмолвится о походах на природу.
Мы на мгновение покинем Лизе и Грету: у них всё хорошо, и они ни в ком не нуждаются. Пока они мило и весело болтают о неистовой склонности кандидатов в мужья к путешествиям на природе, мы позволим ночи за окном замереть – пусть она хотя бы разок вздремнет, а утро наступит пораньше. Где-то лежала Милле и разглядывала матовыми глазами-изюминками моего бедного Вильхельма, в котором ей еще не удалось убить воспоминания о нашей с ним сырой, жестоко-яростной и нежной жизни. Но она запаслась терпением. Ей потребовалось два года, чтобы перетащить его из одной постели в другую, теперь же торопиться некуда. Он болен, напуган и беспомощен, но она поставит его на ноги, поскольку, в отличие от маковых барышень, верит: то, что она называет любовью, может творить чудеса. Для начала она потерла ему спину (мой Вильхельм, ведь он принимал ванну лишь на праздник Богоявления), одела в чистую пижаму и уговорила съесть миску супа. Всё вместе это очень разумно и одновременно очень нелепо. И вдруг Милле вся затрепетала, как маленькая хилая птаха. Это чисто физическая усталость. Она пахала как лошадь, чтобы спасти этого редкого и ценного человека от отношений, которые едва не убили его. Несколько месяцев она наблюдала, как он пичкал себя виски и снотворным, которые ей приходилось заказывать по телефону: она ни на секунду не могла оставить его одного. Милле не перебивая слушала его ненавистные и горькие жалобы о брошенной им женщине, как ей казалось, незнакомой, хотя однажды она потерла ей спину. Милле потерла спину и нашему бесприютному мальчику, пока его дорогое лицо не начало расходиться по швам так, что она могла заталкивать в смеющиеся трещины витаминные пилюли и здоровую еду.
Время от времени она слышала сладкие пожелания спокойной ночи, предназначенные другой, и смирилась с тем, что он называет ее чужим именем в те мгновенья коротких отчаянных объятий, которыми было просто невозможно насладиться. Злая Милле устала. Ее злоба заключалась лишь в том, что она не могла смотреть на несчастных людей без того, чтобы не попытаться осчастливить их. И несчастные тянулись к ней, словно обезображенные и умирающие к святому источнику. Они обступали ее, как ядовитые грибы, скорее красивые, чем опасные, если их просто оставить расти в покое. Но Милле не могла оставить в покое темные и непроницаемые умы. Ей нужно было снять гниль с дерева, хотя именно эта гниль и держала его. Ее неутомимость внушала страх и подводила ее только перед лицом полного изнеможения. На мгновение тонкий червячок сомнения закрадывался в ее сердце при виде бледного лица Вильхельма, испещренного каплями пота.
Читать дальше

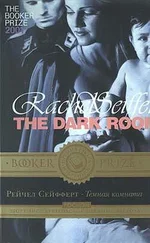
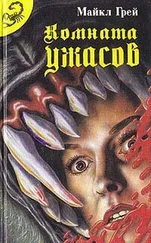


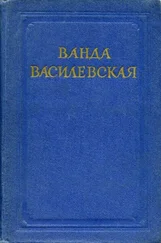




![Джошуа Беккер - Дом минималиста [Комната за комнатой, путь от хаоса к осмысленной жизни]](/books/389799/dzhoshua-bekker-dom-minimalista-komnata-za-komnatoj-thumb.webp)

