К таким практичным советам Лизе обычно прислушивалась, даже если была не в состоянии предвидеть их последствия. Она написала доверенность на продажу дома на отдалившуюся от нее дочь: та разбиралась в юридических вопросах. Когда Лизе выплатили крупную сумму денег и выдали два закладных листа – их можно было обналичить в затруднительном положении, – она чувствовала себя так, будто получила грант. Положив деньги на сберегательную книжку, она ощутила себя в полной безопасности. Но теперь, когда на счету впервые в жизни оказалось более ста тысяч крон, из налоговой пришел счет на шестьдесят шесть тысяч. Адвокат, занимавшийся продажей дома, посоветовал заплатить и радоваться, что у нее вообще есть деньги. После случившегося она снова оттолкнула от себя окружающий мир, как непослушного ребенка, которому придется подождать со своим нытьем. С той счастливой поры в Биркерёде она не знала нужды и точно понимала, что ей не справиться с бедностью и несчастьем одновременно. Мальчик, которому ни разу не отказывали в чем-либо, ссылаясь на слишком высокую цену, это тоже понимал. Он винил себя, что вернулся домой с каникул лишь потому, что не мог спокойно поспать и ночи: голос отца беспрерывно ревел и кричал, свистел проклятым ветром у него в голове, влетая в одно ухо и вылетая из другого. И мать кричала вместе с ним, кричала и плакала, и умоляла пожалеть хотя бы мальчика. И тут сердце Тома принималось колотиться так, что от этого некуда было деться и никак не получалось это остановить. И он мчался в город на мопеде, звал приятелей, заполнял ими квартиру и забывал обо всех ужасах, пока его сердце не становилось таким же, как все прочие. Он звонил домой и спрашивал у матери, там ли всё еще его отец – если да, Том не возвращался. «Приходи, он у Милле», – говорила Лизе. И говорила так спокойно, словно это была больница, где о нем позаботятся и не причинят вреда.
Том снова ехал домой: мать радовалась, радовалась и Кирстен – прислуга, взятая на лето. Они играли в карты и разгадывали кроссворды, и именно тогда всё и началось: имени Вильхельма не упоминали, но думали о нем. Вот что мы думали: «Господи, убереги нас от него подольше. Пусть всё закончится к его возвращению. Пусть он наслаждается „великолепным телосложением“ Милле (словно построенной на верфи, как подшучивала я вместе с Томом). Пусть довольствуется „энергичностью“ Милле, пусть продолжает восхищаться, что она „никогда не остается без дела“. (Она обладала располагающей способностью к одному из тех нескончаемых псевдопутёвых видов деятельности, что никогда не приводят к сколько-нибудь видимому результату.) Дай бедной отважной Милле, которая желает нам всего самого хорошего, сил терпеть эту смесь из виски и снотворного до тех пор, пока он снова не станет нашим великим отцом, пока не произнесет: „Женушка моя и единственный сын мой, отрада моя“. И прежде всего не допусти, чтобы он пришел на ужин с издателем. Иначе он только всё испортит и нас всех распугает. Сердце Тома снова заколотится так, что он подумает, будто умирает. И мне, Лизе, придется притворяться перед любезными, но незнакомыми людьми, будто у нас так принято. Что бы ни произошло, у нас постоянно возникают такие смешные и сумасшедшие ситуации, когда приходят гости. И в целом они всегда радуются, что такое не случается у них, и хотя у них всё по-другому, но далеко не лучше, чем у нас».
Но то, что его имя никто не произносил вслух, не помогало, и он вваливался сразу после гостей, после всех этих приготовлений, что наполняли Лизе предвкушением и радовали так, что ее движения сливались с ее мечтами. Она разливала по рюмкам шнапс и рассказывала что-нибудь, от чего издатель заливался хохотом. Смеялись все, и так, считал мальчик, и продолжалось бы, если бы только отец так ужасно не изменился, если бы только Милле не расстилалась перед ним, словно бегунья, стирающая самую ужасную грязь с ботинок, прежде чем они коснутся паркета. Боже милостивый – и отец неожиданно появлялся в дверном проеме в самой опасной стадии опьянения, с пеной у рта и с пронзительным безумием в покрасневших глазах. «Нет, до чего забавно», – произносил он негромко и потирал сухие ладони друг о друга. Звук напоминал о наждачной бумаге, и в тот момент никакого другого звука не существовало: мальчик едва успевал увидеть, как отец, пошатываясь, направлялся к столу, прежде чем с криком испуганной птахи проскочить мимо родителя и метнуться к своему мопеду, который простоял весь день на солнце, поэтому его сиденье обжигало сквозь штаны. Лишь через много километров его сердце снова успокаивалось, и с тех пор отца он больше не видел, мать же ничего не рассказывала о том, что происходило дальше в тот самый день. Он вовсе не был «чудесным мальчиком», он был эгоистичным болваном, которому нравилось чувствовать, как длинные прохладные пальцы Милле скользили по его волосам, когда она их мыла!
Читать дальше

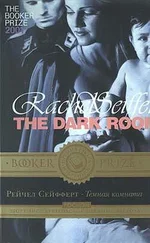
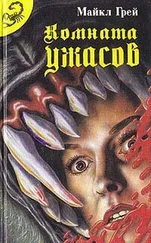


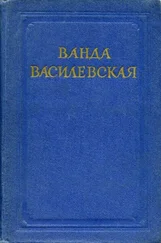




![Джошуа Беккер - Дом минималиста [Комната за комнатой, путь от хаоса к осмысленной жизни]](/books/389799/dzhoshua-bekker-dom-minimalista-komnata-za-komnatoj-thumb.webp)

