Ну, смелости насобирал, захожу в избу. Там уж пляска идет. Смотрю – Танька тоже на кругу. Как глянул… Мать честная, умирать буду, тот момент вспомню! Плечи у нее в красной фате, сарафан ласковый. Идет по кругу, ноги в полусапожках; меня будто и не заметила. А божатушка уже ко мне бежит за стол усаживать, пиво из ендовы наливает. Застолье роем гудит, гармонья играет, бабы пляшут. Поздоровался, взял стакан с пивом. «С праздником, – говорю, – гости хозяйские». Пью, а сам чую, как Танька поет: «Веселее бы попела, кабы дроля поиграл. Терпеливый ягодиночка, завлек и не бывал». Эх!.. А играл-то Федуленок, еённый отец, худенько играл. Мне до того охота гармонью в руки, что не могу! А надо посидеть, гостей с хозяевами уважить. Ну, налили первую рюмку, дождался второй рядовой, а бабы пляшут кружком, все вместе. Танька…
Весь вечер я как в огне, сам себя не помню, не помню, как на улицу с гармоньей ходили, как плясал – не помню. Она меня нет-нет да и обожгет глазами. Провалиться на этом месте, один этот момент и был за всю жизнь, больше такого и не бывало. Как погляжу на нее, будто меня ошпарит чем. Ноги плясать просятся, а горло будто… хм.
Олеша вдруг замолк. Сивые брови нависли и потушили апрельскую синеву стариковских глаз, он сосредоточенно шаркал наждаком о топор. Я терпеливо ждал продолжения рассказа. Но старый плотник молчал, словно споткнувшись на чем-то, и лицо его было совершенно непроницаемо. Я кашлянул, шумно полез в карман за куревом. Но Олеша молчал. Вдруг он резво и озорно воткнул топор в бревно.
– Вот ты – парень грамотный.
Я пожал плечами.
– Скажи мне вот что…
– Что?
– Как делу быть? Иной раз думаешь, ладно сделал. Добром к человеку.
– Ну?
– А потом ты же и виноват. Как тут пословицу не вспомнишь: не делай людям добра – ругать не будут.
Я выразил недоверие к этой пословице. Но Олеша не слушал. Он глядел куда-то за горизонт, и я опять осторожно спросил:
– Ну так как…
– Что?
– Да тогда, в Успеньев-то день…
– A-а, что… Дело-то, вишь, давнее. Ну, это… Божатка моя мне на сено постелила, а Винька Козонков пьяным притворился. Он тоже в этом дому объявился. Поднесли ему, он и давай куражиться. Сунулся на поветь – чую, спит. А девки под пологом вот форскают. Я лежу, думаю, идти к ним под полог али нет? И боюсь, и смелости не хватает. «Девки, – кричу, – а что, ежели я к вам?» Оне мне шумят: вот, мол, у нас тут коромысло рябиновое. Я говорю: «Что мне коромысло, можете и огреть разок, только под полог пустите». Откуда что взялось. Я – к ним. Моя двоюродная была догадливая. Шмыгнула с повети… «Забыла, – говорит, – самовар закрыть, вон гроза поднимается». Шасть двоюродная в избу. И не идет. А весь дом спит: божат с божаткой в зимней избе, гости все кто где – кто в летней избе на лавках, кто на полати уволокся, а на повети одни мы с Танькой. Да еще Винька на сене храпит в обе ноздри. Я к Таньке, понимаешь, подсел, коленки от страху трясутся. «Тань, а Тань?» – говорю, а сам рукой поверх одеяла-то. Молчит. «Вишь, – говорю, – мне без тебя не жизнь. Давай будем гулять по-хорошему, на руках буду носить..» Да взял ее за локоть – молчит. А сам весь от страху дрожу, хуже всякой войны. Обнять только приноровился, а она мне: «Что ты, – говорит, – Олешка, не надо. Чуешь, – говорит, – не трогай меня. Уходи, – говорит, – стыд-то какой. Вон двери скрипнули, чуешь, уходи…» Ох, дурак я, дурак, встал да ушел на улицу, там еще чья-то гармонья играла. Проплясался уж под утро, захожу на поветь-то, а там, слышу – Винька под пологом мою Таньку жамкает, чую, вот целуются… Я в избу, схватил графин, гляжу – графин-то пустой. А двоюродная моя корову собралась доить. «Чего, – говорит, – Олеша, прозевал-то? Эх ты, недопека!» Захохотала, дойник на руку – да на двор. Оглянулась в дверях-то да и говорит: «А мне Танька тебя велела найти. Только где тебя искать? Убежал на улицу, будто век не плясывал. Так и надо тебе, дураку!» Еще и язык показала двоюродная-то, дверями хлопнула. Тут гости запросыпались, зашевелились, а я, как неумный, убежал домой.
…Вскоре мы вырубили еще один ряд. Солнце скатывалось за горизонт, светило спокойно и ярко. Я снял шапку и впервые в этом году ощутил его слабое, но такое отрадное тепло.
– Что, припекает красавка-то? – улыбнулся Олеша.
Он тоже снял шапку, и его младенчески-непорочная лысина забелела на солнце. Как раз в эту минуту издалека долетел до бани рокот автомобиля. Мы подождали машину, не сговариваясь: дорога проходила в пятнадцати метрах от бани. Олеша с любопытством глядел на приближавшийся грузовик, стараясь узнать, кто, зачем и куда едет. Машина затормозила. Разбойная курносая харя, увенчанная ушастой шапкой, выглянула из кабины.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


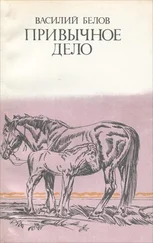

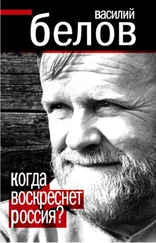
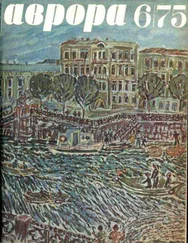


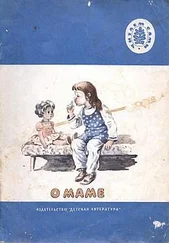

![Василий Белов - Волшебное слово [Сказки]](/books/393402/vasilij-belov-volshebnoe-slovo-skazki-thumb.webp)
