Уже через полчаса до предела измученный Шатун ткнулся окровавленной мордой в жесткий мартовский снег. От жеребца валил пар, мыльная пена заполнила промежность мощных ножищ, он неподвижно лежал в глубоком снегу.
– Ну, теперь на большую дорогу, – сказал бригадир весело и продернул ремень в свои полосатые штаны. – Побежит как миленький. Не поедешь со мной в контору?
– Нет, не поеду.
Я не стал дожидаться выезда на большую дорогу и через огороды, по пояс проваливаясь в снег, вышел к деревне.
Олеша сдержал слово: после обеда он пришел ремонтировать баню. Мы не спеша стукали топорами. Погода за полдень потеплела. Солнце было огромным и ярким, снега искрились вокруг.
– Не клин бы да не мох, так и плотник бы сдох, – сказал старик, вытесывая клин.
Из новых Олешиных бревен мы уже вырубили один ряд. И вдруг старик между делом спросил, не рассказывал ли вчера Авенир про свою женитьбу.
Козонков про женитьбу не рассказывал.
– А что?
– Да ничего. Он, бывало, поехал со мной свататься. Я ему говорю: «Давай запряжем мои сани». Нет, заупрямился, запряг свои розвальни. Приехали, бутылку на стол, так и так, дело сурьезное. Деревня за десять верст. Невеста за перегородку ушла, а отец у ее и говорит: «Подождите, ребята, я вашей лошади овса сыпну, а потом уж и будем о деле судить-рядить». Винька в избе остался, а я тоже вышел на улицу, думаю, как там, лошадь-то. Гляжу, невестин отец несет нашей лошади лукошко овса. Высыпал да и глядит на завертки. Одну поглядел, другую. «Чьи, – говорит, – розвальни, твои, парень, аль жениховы?» Я не знаю, чего и сказать. Сказать, что мои, подумает, что жених в чужих розвальнях приехал, да и врать вроде нехорошо. «Жениховы», – говорю. Зашли в избу, невестин отец и говорит Козонкову: «Нет, парень, пожалуй, нам не сговориться. Не отдам я тебе дочку». – «Что же, почему?» – Козонков спрашивает. «А вот, – это невестин отец, – вот повезешь мою девку к венцу, а у тебя на первой горушке завертка и лопнет. Девка-то, – говорит, – у меня ядреная, а у тебя завертки веревочные…»
– Так и уехали?
– Так и уехали. До того, друг мой, стыдно было, что хоть давись.
Я осмелел и спросил у Олеши, как женился он сам и вообще была ли у него в жизни любовь. Олеша, поворачивая бревно, отозвался:
– Любовь-та?
– Да.
– А как же. Была у меня и любовь, и корешковые сани были. Чтобы о Масленице ее катать. Только она, моя любовь-то, за Печору от меня укатила.
– Что, сама уехала?
– Как тебе сказать… Пожалуй, не больно сама. И насчет Масленицы – дело десятое оказалось.
И вдруг Олеша оживился, воткнул топор:
– Ты Ярыку-то помнишь? Здоровый был мужик, изо всего лесу. Он мне, бывало, говаривал: «Ты, Олешка, девок только не бойся. Будешь девок бояться – ничего путного из тебя не получится. Наступай, – говорит, – с первого разу. Она пищать будет, заверещит, а ты вниманья не обращай. Пожалеешь – пропало все дело, эта уж не твоя. Омманывать, – говорит, – не омманывай – это дело худое, любой девке уваженье требуется. А и назавтре не оставляй». Я, бывало, слушаю, а сам краснею, и стыдно, и послушать охота. Только слушать одно, а на практике другое, практика эта мне не давалась… Помню, ходил в бурлаки. Зимогорить не остался, пришел из работы через девять недель. Деньжонок отцу принес да себе кумачу на рубаху. Иду домой, сердчишко воробьем скачет: скоро на гулянку явлюсь. Таньку увижу. А какая Танька у Федуленка была? Уж я тебе скажу… Помню, еще маленькие ходили в мох по ягоды. И Танька с нами. Мы, значит, с Винькой брусницы не насбирали. Только гнездо нашли да по клюшке выломали. А Танька той порой знай сбирает, набрусила корзинку будто шуткой. Домой пошли, Винька меня и подговаривает: «Давай ягоды у ее отымем да съедим. Ежели мы пустые домой идем, так пусть и она не хвастает». Танька в рев. Винька хохочет филином, ягоды отнимает, а мне хоть и жалко Таньку, все равно – в грабеже участвую. Съели мы эти Танькины ягоды, не съели – больше в траве рассыпали, и до того мне ее жалко стало… Таньку-то. Она, помню, идет за нами, дистанция порядочная, идет да ручонкой слезы размазывает. А Винька дразнит ее. И вот, друг мой, до того мне жаль ее, что охота этому Виньке в ухо треснуть. А как треснешь, ежели и сам в евонной компании? С этой поры Танька мне больше всего и запомнилась, а когда у бани подглядывал, это уж дело новое.
Ну, к той поре, когда мы бурлачить начали, Танька стала сама как ягода. Выросла за одно лето, откуда что и взялось. Коса густая, ниже пояса. Уши белые. Глаза у ее были, я тебе скажу, – не глаза, а два омутка, то синие, то черные, глядят куда-то сквозь тебя, и не поймешь, что думают, будто забыли чего, а вспомнить не могут. Ростиком была чуть пониже меня, походкой легонькая: глядишь – и не знаешь, то ли Танька идет, то ли бегом бежит. До травки-муравки будто из милости ногами дотрагивается, и никогда назад не оглядывалась. Все у нее выходило само собой: неизвестно, когда петь-плясать научилась, когда ткать-вышивать, плести кружева. На белый свет будто вытаяла… Косить, бывало, пойдет либо суслоны жать, не идет – птахой летит, что с поля, что в поле. А песни эти дак у нее сами так и сыпались, ее будто не спрашивались, и каждая на своем месте. Бывало, на беседе нитку прядет… Да, это… Значит, пришел я из работы. На гулянку не иду, жду, когда матка рубаху сошьет. На второй день рубаха сметана, на третий пуговицы осталось пришить. Округ матки, как поп округ аналою… Вот, помню, Успеньев день, пошел в гости к божату в Огарково. Иду, ног под собою не чую, только цветки тросткой сшибаю. До деревни не дошел, встал, прислушался. А как ветер-то дунет, так меня весельем-то деревенским и обдаст, чую: в Огаркове уже гуляют вовсю, гармонья играет, девки за гармоньей по улице ходят, поют. Федуленок тоже с моим божатом гостился. Знаю, что Танька уж тут, боюсь в гости идти. В деревню зашел задами, подошел к божатову взъезду. Руки-ноги будто отнялись, а сердце в грудине готово ребро выломить, вот стукает – на весь белый свет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


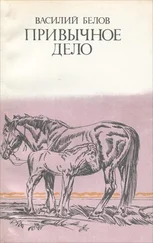

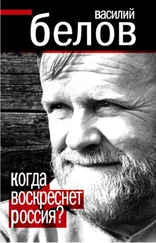
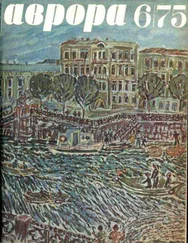


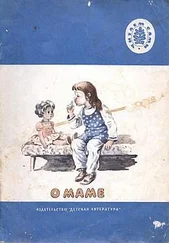

![Василий Белов - Волшебное слово [Сказки]](/books/393402/vasilij-belov-volshebnoe-slovo-skazki-thumb.webp)
