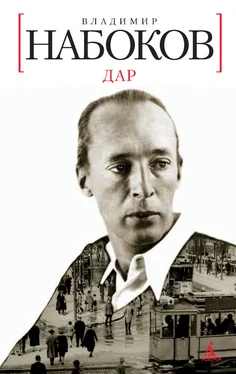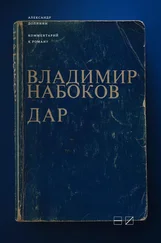Вступает тема кондитерских. Немало они перевидали. Там Пушкин залпом пьет лимонад перед дуэлью; там Перовская и ее товарищи берут по порции (чего? история не успела – —) перед выходом на канал. Нашего же героя юность была кондитерскими околдована, так что потом, моря себе голодом в крепости, он – в «Что делать?» – наполнял иную реплику невольным воплем желудочной лирики: «У вас есть и кондитерская недалеко? Не знаю, найдется ли готовый пирог из грецких орехов, – на мой вкус, это самый лучший пирог, Марья Алексеевна». Но будущему воспоминанию наперекор, кондитерские прельщали его вовсе не снедью, – не слоеным пирожком на горьком масле и даже не пышкой с вишневым вареньем, – журналами, господа, журналами, вот чем! Он пробовал разные, – где газет побольше, где попроще да повольнее. Так, у Вольфа «последние оба раза вместо булки его (читай: Вольфа) пил кофе с пятикопеечным калачом (читай: своим), в последний раз не таясь» – т. е. в первый из этих двух последних разов (щепетильная обстоятельность его дневника вызывает в мозжечке щекотку) таился, не зная, как примут захожее тесто. В кондитерской было тепло, тихо, только изредка юго-западный ветерок газетных листов колебал пламя свеч («волнения уже касались нам вверенной России», как выражался царь). «Позвольте-с „Эндепенданс Бельж“. Благодарю-с». Пламя свеч выпрямляется, тишина (но щелкают выстрелы на Бульвар де Капюсин, революция подступает к Тюльери, – и вот Луи Филипп обращается в бегство: по Авеню Нейи, на извозчике).
А потом донимала изжога. Вообще питался всякой дрянью – был нищ и нерасторопен. Здесь уместен стишок Некрасова: «Питаясь чуть не жестию, я часто ощущал такую индижестию, что умереть желал. А тут ходьба далекая… Я по ночам зубрил; каморка невысокая, я в ней курил, курил…» Николай Гаврилович, впрочем, курил не зря, – именно «жуковиной» и лечил желудок (а также зубы). Его дневник, особенно за лето и осень 49-го года, содержит множество точнейших справок относительно того, как и где его рвало. Кроме курения, он лечился ромом с водой, горячим маслом, английской солью, златотысячником с померанцевым листом, да постоянно, добросовестно, с каким-то странным смаком, пользовался римским приемом, – и, вероятно, в конце концов умер бы от истощения, если бы (выпущенный кандидатом и оставленный при университете для занятий) не приехал в Саратов.
И вот тогда, в Саратове… Но как ни хочется поскорее вылезти из черного уголка, куда нас завел разговор о кондитерских, и перейти на солнечную сторону жизни Николая Гавриловича, все же (ради некой скрытой связности) я еще немного тут потопчусь. Однажды он бросился за большой нуждой в дом на Гороховой (следует многословное, со спохватками, описание расположения дома) и уже оправлялся, когда «какая-то девушка в красном» отворила дверь. Увидав руку, – хотел дверь удержать, – она вскрикнула, «как это бывает обыкновенно». Тяжкий дверной скрип, ржавый крючок отбит, вонь, стужа, – ужасно… но чудак наш вполне готов потолковать с самим собой об истинной чистоте, отмечая с удовлетворением, что «даже не полюбопытствовал, хороша ли она». В своих сновидениях он зато смотрел зорче, и случай сна был к нему милостивее судьбы явной, – но и тут как он радуется, когда, трижды целуя во сне гантированную ручку «весьма светлорусой» дамы (матери подразумеваемого ученика, во сне приютившей его, т. е. нечто во вкусе Жан-Жака), он не может себя упрекнуть ни в какой плотской мысли. Зоркой оказалась и память о той молодой, кривой тоске по красоте. В пятьдесят лет, в письме из Сибири, он вспоминает девушку-ангела, замеченную однажды в юности на выставке Промышленности и Земледелия: «Идет какое-то аристократическое семейство», – повествует он своим позднейшим ветхозаветно-медленным слогом. «Понравилась мне эта девушка, понравилась… Я пошел шагах в трех сбоку и любовался… Они были, очевидно, очень знатные люди. Это видели все по их чрезвычайно милым манерам (в патоке этой патетики есть мошка от Диккенса, заметил бы Страннолюбский, но все же не забудем, что это пишет полураздавленный каторгой старик, как справедливо выразился бы Стеклов). Толпа расступалась… Мне было вовсе свободно идти в шагах трех, не спуская взгляда с той девушки (бедненький сателлит!). И длилось это час или больше (вообще выставки, например, Лондонская 62 года и Парижская 89 года, со странной силой отразились на его судьбе; так, Бувар и Пекюшэ, принимаясь за описание жизни герцога Ангулемского, дивились тому, какую роль сыграли в ней… мосты).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу