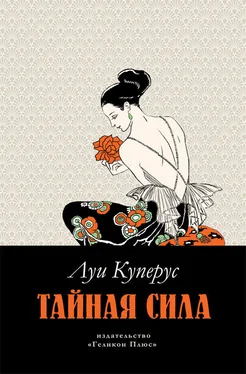И тогда вдруг открылась вакансия в Батавии. Назывались имена двух, трех кандидатов, но больше всего шансов было у ван Аудейка. А он засомневался, он испугался: он не любил Батавию как административную область. Он не сможет работать там так, как работал здесь, верой и правдой защищая всевозможные интересы, культурные и общественные. Он предпочел бы, чтобы его назначили в Сурабаю, где так много всего происходит, или в одну из независимых княжеских областей, где так пригодилось бы его умение обходиться с яванской знатью. Но Батавия! Для резидента как правительственного чиновника это была наименее привлекательная область: в непосредственной близости от генерал-губернатора, среди высших лиц во всей Нидерландской Индии, резидент, в других областях страны всемогущий властелин, здесь оказывался всего лишь одним из высокопоставленных чиновников, наряду с членами Совета Нидерландской Индии и директорами; к тому же совсем рядом был Бейтензорг, где расположен славящийся тщеславием секретарский отдел: их вечная бюрократическая волокита всегда мешала реальной работе резидентов.
Возможность этого назначения совсем выбила ван Аудейка из колеи, он разнервничался сильнее, чем когда-либо, ведь ему в течение месяца надо будет распродать на аукционе имущество [75]и покинуть Лабуванги. Отъезд из Лабуванги разобьет ему сердце. Хотя ему здесь довелось много страдать, он любил этот город, и особенно эту область. Во всем вверенном ему районе за прошедшие годы накопилось много свидетельств его трудов, внимания, стремлений, любви. А теперь, за месяц, он должен передать это своему преемнику, оторваться от всего, за чем с любовью ухаживал, о чем заботился. От этого он впал в мрачное настроение. То, что продвижение по службе означало приближение пенсии, его не радовало. Будущее, заполненное бездельем и тоскливым ожиданием старости, представлялось ему кошмаром. А преемник, возможно, все изменит, ни в чем не будет согласен с прежним резидентом.
И тогда мысль о предполагаемом продвижении по службе стала для него настолько болезненным наваждением, что произошло немыслимое: он написал директору Управления по делам колонии и генерал-губернатору письмо с просьбой оставить его в Лабуванги. Об этих письмах почти никто не узнал, он сам о них молчал как в кругу семьи, так и в разговорах с сослуживцами, так что когда в Батавию был назначен более молодой резидент второго класса, начались разговоры о том, что ван Аудейка обошли, и никто не ведал, что он сам так устроил. В поисках причины люди ворошили недавнее прошлое, вспоминали отставку регента Нгадживы, последовавшие за ней странные происшествия, но ни в том, ни в другом не находили достаточных оснований для того, чтобы правительство обошло ван Аудейка.
Сам же он обрел после этого покой, но это был покой вялости, покой прекращения борьбы, прирастания к своему любимому Лабуванги, опрощения в своей провинции, отказа переезжать в Батавию, где все иначе. Когда генерал-губернатор на прошлой аудиенции заговорил с ним об отпуске в Европе, ван Аудейк испытал страх перед Европой – страх, что он там не будет чувствовать себя дома, а сейчас он боялся даже Батавии! И все же он прекрасно знал, чего стоит этот якобы западный блеск Батавии; он прекрасно знал, что, как бы ни пыталась столица Явы быть европейской, на самом деле она была европейской только наполовину. В душе – по секрету от жены, огорчавшейся из-за несбывшейся мечты пожить в Батавии, – в душе он посмеивался, радуясь, что сумел остаться в Лабуванги. Но из-за этого смеха он чувствовал себя изменившимся, постаревшим, ослабшим, он уже не стремился занять среди людей как можно более высокое положение, двигаясь вверх и вверх по восходящей линии, какой всегда была линия его жизни. Куда подевалось честолюбие? Что случилось с его властной натурой? Он считал, что это воздействие климата. Ему было бы полезно освежить свою кровь и свой дух, прожив несколько зим в Европе. Но подобные мысли тотчас безвольно съеживались. Нет, он не хотел в Европу. Ему оставалась мила Ява. И он погружался в длительные размышления, лежа в шезлонге, наслаждаясь чашкой кофе, легким костюмом, сладкой расслабленностью мышц, бесцельным потоком сонных мыслей. В этом сонном потоке остроты не теряла только его постоянно растущая подозрительность, и время от времени он стряхивал с себя вялость и прислушивался к смутным звукам, тихому подавленному смеху, которые мерещились ему в комнате Леони, точно так же как по ночам, боясь нечисти, прислушивался к пуху в саду и возне крыс у себя над головой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу