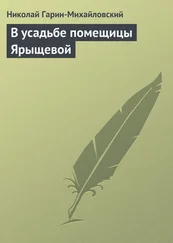Марья Павловна прижималась к своему спутнику и восторженно говорила:
– Какое чудное утро, как хорошо здесь: рай!
– Да, и этот рай принадлежит какому-нибудь обгрызку мысли и чувства, а мы с тобой, которым рукоплещет и поклоняется толпа – мы, как Адам и Ева, уходим изгнанниками.
– Маленькая разница на этот раз: Ева, изгоняемая до вкушения запрещённого плода, но результат, впрочем, тот же: изгнали.
– Сами изгоняем себя…
Наёмная пара нагнала их у самого города.
Когда Сильвин и Марья Павловна сели, ямщик о весёлым лицом, вздёрнутым носом обратился к ним:
– У Сапожкова в гостях, видно, были?
– Н-да…
– Уж такой негодяй, – сплюнул ямщик, подбирая вожжи, – такой сквалыга, не накажи Господь. На вокзал, что ль?
– На вокзал.
– Но!.. Деньги в срок за землю ему не принесёшь, сейчас к земскому, – неустойку, да судебные издержки… Скотина ступит на его землю, – опять три рубля штрафу… Такой негодяй…
Он помолчал:
– А уж насчёт девок… где только застукает…
– Ну, дальше можешь не распространяться. Погоняй: хорошо получишь.
Три месяца ездили молодые.
И хоть, возвратившись, Матрёна Карповна скрывала свою беременность, но всевидящая бабушка сразу сообразила, в чём дело.
Она и радовалась, и в то же время новые мучительные мысли не давали ей покоя: «мальчик, девочка, с короткой шеей или длинной?»
Невестка была, как могила.
При всей своей неустрашимости, и бабушка не решалась заговаривать с ней.
– Узнаю всё, – утешала она себя, – когда придёт время…
И, действительно, когда пришло это время, всё узнала бабушка.
Она смотрела с безумной радостью на эту, вдруг таинственно выглянувшую из бесформенной массы среди стонов и воплей, головку, и руки её дрожали, когда она творила крестное знамение.
Она бросилась в соседнюю комнату, где томился внук, и, притащив его за руку, исступлённо говорила ему:
– В брата моего, весь в брата: такой же тёмный, с длинной шеей и глаза его… и мальчик, мальчик… Ох, умница моя!.. Благодари, благодари! Земным поклоном! Так!.. Ноги её мыть, воду ту пить должен!
Бабушка ещё двенадцать лет жила после этого.
Как-то, незадолго до смерти, она призвала к себе няньку и призвала утром, что не было у неё в обычае.
– Сон мне приснился, – сказала бабушка. – Третий такой сон вижу в жизни. Первый перед смертью мужа, второй, как ездила тогда за Матрёной, а третий нынче ночью. Сижу я вот здесь, на этом месте и жду чего-то: вот сейчас растворится дверь, и узнаю я всё. И тихо, так тихо сами двери растворяются, и тьма за ними непроглядная, и, гляжу я, из тьмы выходит мой муж покойный, и знаю я, что умер он, и знаю уже, зачем он пришёл. И говорю ему: «за мной, что ли?» А он этак головой мне кивает. А чёрный кот на окне сидит… помнишь, который ещё при покойнике извёлся… поднял шерсть, окрысился на меня, а глаза, как угли, и растёт он, растёт… И проснулась я… Ну… вещий сон?
Няня молчала, смотрела в пол, и мутные слёзы текли по её лицу. Бабушка вздохнула:
– То-то же… Ну и будет плакать: негоже это… Пожила, потрудилась, как умела, пора и в дорогу…
Стала бабушка готовиться. Хотела было церковь строить, да побоялась, что не поспеет: отказала в духовной на церковь, а для единоверческой церкви заказала колокол, какой только может поднять колокольня.
– Чтобы его медный язык напоминал обо мне, недостойной, перед престолом Всевышнего.
Последнее желание бабушки было своими ушами услышать первый звон колокола.
Она уже лежала, когда провезли его по улицам.
– Ох, доживу ли? Позволит ли Господь дожить, примет ли мою грешную жертву? – металась бабушка и на это время забыла обо всём земном.
Всю ночь уставляли снасти, натягивали канаты, к утру всё было готово, и после ранней обедни начали поднимать колокол.
Радостное весеннее утро сверкало над землёй.
И площадь, и улица, всё вплоть до окна, где лежала бабушка, набилось народом с одной мыслью у каждого: успеют ли навесить колокол, примет ли Господь бабушкину жертву?
Из уст в уста сообщали бабушке всё, что делалось около церкви. Уж дело подходило к полудню. Надвигалась гроза. В последний раз из-под тёмной тучи выглянуло солнце, как грозное Око Творца, а под ним ещё сверкала безмятежная даль золотистых небесных полей. В это мгновение раздался первый протяжный удар колокола. Вздох облегчения пронёсся в многотысячной, обнажившей головы, толпе, и стало тихо, так тихо, как бывает только во сне, и все взгляды устремились в окно, где вдруг показалось мертвенно-бледное лицо вставшей бабушки, с громадными чёрными глазами, с протянутыми руками туда, где сверкало ещё из-под туч последними яркими лучами солнце, и губы её вдохновенно шептали просившим её лечь:
Читать дальше