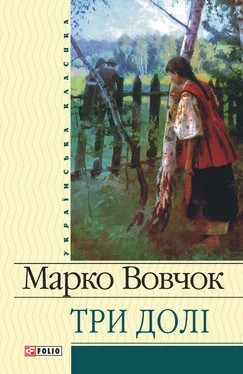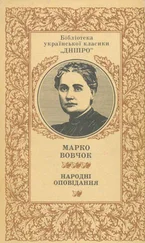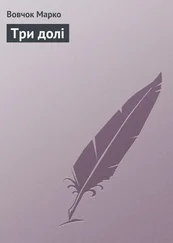Но тут бандура так зазвучала у бандуриста, что все внимание обратила на себя.
Что это была за песня – разобрать было трудно; не то угрожающий гимн, не то мучительный стон.
Все притихло, слушая, поглощенное непонятною силою; робкая девочка с опущенною головкой и дрожащею ручкой была забыта. Все увлеклись бандуристом.
В прозрачном тихом воздухе, в светозарной мгле розового вечера гудело, дрожало и разливалось:
Ой ти ремезо, ой ти ремезонько,
Да не мости гнізда, да понад Десною!
Бо Десна – Десни щодня прибуває,
Вона твоїх діток да позатопляє! [7] О, ремез, не свивай гнезда около Десны: вода в реке с каждым днем прибывает, и твои дети будут затоплены.
Какой-то молодой офицер, красивый, как картина, самодовольный, удалой, с военными ухватками и военным выражением лица, вышел из палатки.
Он вышел, очевидно, от скуки, от нечего делать, но, услыхав пенье бандуриста, приостановился, потом перестал пускать дым колечками, потом забыл курить трубку, потерял воинское выражение лица и фигуры.
Что-то давным-давно заглохшее, что-то давным-давно позабытое ему вспомнилось.
В иные минуты странно преображаешься ты, образ человеческий!
На лице офицера, всего за несколько секунд пред тем являвшем, так сказать, один воинский парад, теперь заиграло совсем иное.
Даже черты словно стали другие. На гладком, отлогом лбу собрались, может, отроду тут небывалые складки, губы, щеголявшие, как лучшим украшением, самодовольною и несколько наглою улыбкою, сжались, глаза, имевшие только способность глядеть по-военному, чудесно смягчились.
Грозное, зловещее пенье бандуриста перешло в другое, до того преисполненное отчаянной, бессильной тоски, что один раненый солдат проговорил:
– Ах, жилы из меня тянут!
Зажурилась Україна,
Що нігде прожити,
Витоптала орда кіньми
Маленькії діти
Що малії витоптала,
Старії побила,
Молодую челядоньку
У полон забрала! [8] Плачет Украйна, потому что негде укрыться от беды. Татарская орда потоптала детей, поизбивала старых, а молодежь забрала в плен.
Слушая это незатейливое изложение фактов, офицер как бы спрашивал себя о многом таком, о чем прежде спрашивать не было помышления.
Можно было наверное сказать, что в этот момент он не крикнул бы с прежним удальством:
– Пли!
Какой-то усатый солдат, напоминавший цветом и изъянами израненного тела старую, поломанную медную статую грубой работы, могущую олицетворять собой представление грубой, свирепой жестокости, сначала мрачно, но неподвижно, слушал пение, потом отошел дальше, потом скрылся за палатку, лег на траву, прикрылся шинелью, и по его закаленному лицу потекли обильные теплые слезы – слезы, не выдавшие себя ни рыданьем, ни вздохом, совсем тихие, тише весеннего благодатного дождя в степи.
Вдруг пенье оборвалось, бандура зазвучала быстрее, быстрее, быстрее, и воинский стан огласился плясовыми звуками.
Ой продала дівчинонька юпку,
Та купила козакові люльку,
Люльку за юпку купила —
Вона ж його вірно любила!
Ой продала дівчинонька душу,
Та купила тютюну папушу,
Папушу за душу купила —
Вона ж його вірно любила! [9] Продала девушка душегрейку да купила козаку трубку. Не пожалела душегрейки – она его верно любила. Продала девушка душу и купила козаку пачку табаку. Не пожалела души – она его верно любила!
Раздался с разных сторон хохот; некоторые принялись подтягивать, качать в такт головою.
– Ай да бандурист! – слышались восклицания, – ай да бандура!
Много шутливых песен еще пел бандурист в потеху воинам, и не без сожаления они распрощались с ним, не без удовольствия приняли его обещание возвратиться снова и снова их потешить.
– Куда идешь? – говорили некоторые. – Ночь ведь на дворе, а дороги-то, известно, не надежные…
– Старцу разбой не страшен, – отвечал беспечный бандурист, уходя, и скоро скрылся с своею проводницею во мгле летнего вечера.
Уже звезды загорелись в небе, а сечевик с Марусею все шли тихою, безбрежною, задремавшею степью.
Все вокруг них безмолвствовало, и сами они не промолвили слова.
Да и что говорить, когда рука с рукою идешь на доброе дело?
Да, хорошо было так итти рука с рукою по дремавшей степи, среди ночного безмолвия, чувствуя только биенье своего переполненного сердца!
Они не знали, долго ли шли, и мы не станем высчитывать того – часы эти были добрые, значит, нечего было знать их – сами пролетели птицею.
Читать дальше