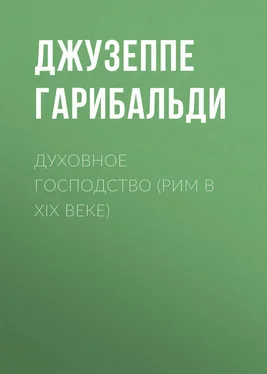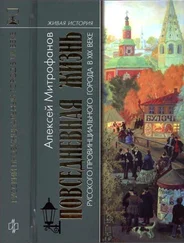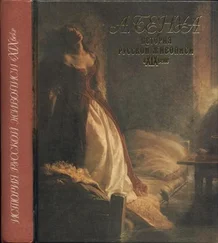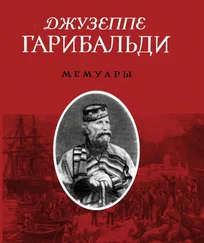И так, было за-девять темной декабрьской ночи, когда через площадь Ротонды прокралось что-то черное-черное, встреча чего заставила бы вздрогнуть хоть кого, из храбрецов Калатафими.
Отвращение или страх, что именно возбуждалось появлением этой тени? – не умею сказать; но полагаю, и то и другое. Оба эти чувства, в этом случае, были вполне извинительны, так-как под черной сутаной, кравшейся в темноте, билось сатанинское сердце, взволнованное преступным замыслом такого пошиба, который в состоянии зародиться и воплотиться только в клерикальной душе.
Приблизясь к воротам дома Помпео, расположенного в глубине пиаццы, незнакомец, осторожно приподняв защелку, тихонько опустил ее и вперил пытливые глазки в густую темноту улицы, опасаясь, вероятно, чтоб не помешали ему совершить то подлое дело, которым готовился пополнить он ряд мрачных драм своего гнусного жития.
Но кому было мешать совершителю преступлений там, где хозяйничают наемщик и папист? где, из многочисленного населения, все, что еще представлялось порядочным, было заключено, сослано или доведено до нищеты?
Ворота аристократического дома отворились; привратник, узнавший «почтеннейшаго» отца Игнацио, поклонился ему земным поклоном, чмокнул его в руку и посветил, провожая до первых ступеней лестницы больше для парада, чем для нужды, ибо лестница одного из богатейших домов Рима была ярко освещена большою люстрой.
– Где Флавия? осведомился пришедший у первого слуги, вышедшего ему на встречу, и Сиччио, как звали этого слугу, чистокровный римлянин, не особенно долюбливавший отца Игнация, сухо проговорил: «подле умирающей», и тотчас же повернулся к нему спиной.
Игнацио, наизусть знакомый с расположением комнат, торопливыми шажками направился прямо в спальной, завершавшей амфиладу приемных покоев и роскошных зал, и, дойдя до неё, издал, пред затворенною дверью, какой-то почтительный, но неопределенный звук, в ответ на который в ту же минуту выглянуло из-за двери сморщенное лицо сестры милосердия, и обладательница его тотчас же подобострастно посторонилась и впустила патера, обменявшись с ним одним из тех взглядов, что он мог бы оледенить самое солнце.
– Сделано?… лукаво и торопливо спросил патер.
– Сделано, мигнула сестра, и они вместе подошли в постели умирающей.
Дон-Игнацио вытащил из-под полы какую-то склянку, налил из неё чего-то в стакан и, пособляемый сестрою, приподнял голову страдалицы, которая машинально раскрыла рот и выпила, доверчиво или уже бессознательно, весь прием.
Усмешка адского торжества осветила лица обоих негодяев, которые, отбросив на подушки голову бездыханной старухи, уселись рядком и повели спокойную беседу. Флавия передала патеру тотчас же какой-то лист; Игнацио торопливо взглянул на подпись, поднес ее пристально к глазам и очевидно довольный результатом своего осмотра, спрятал поспешно бумагу в карман несколько дрожавшею рукою. При этом он как-то неясно промычал: «хорошо! Вы будете вознаграждены… Sta bene!»
Этот лист был духовным завещанием синьоры Виргинии, матери Эмилио Помпео, убитого на стенах Рима свинцом наполеоновским. Жена Эмилио, сломленная горем, сгинула вслед за ним, оставив двухлетнего сына на попечении бабки. Виргиния любила своего Муцио, последнего отростка дома Помпео, любила страстно, и, конечно, не лишила бы его огромного родового наследия. Но, что делать? как многие женщины, она «почитала» патеров, и как многие женщины, не верила, что черная сутана прикрывает зачастую демонские инстинкты.
Дон-Игнацио, теми хитростями и пронырством, кои отличают его касту, через всевозможные ходы и подходы, добился-таки, чтобы в духовной старухи было вписано завещание в пользу «душ, томящихся в пекле».
Но если подобная запись и могла удовлетворить души пекла, то она далеко не удовлетворяла их ходатая, который зарился на все цельное достояние дома Помпео.
Когда занемогла старая донна Виргиния, дон-Игнацио отрекомендовал ей в сиделку Флавию и сам наблюдал за старухой, не допуская к ней никого из посторонних; а когда тело и память больной достаточно, по мнению его, ослабели – не встретил затруднения подменить старую духовную новой, которою наследие Помпео всецело отказывалось братству Сан-Франческо ди-Паоло, и где вместе с тем душеприкащиком и исполнителем последней воли умирающей назначался сам же он, дон-Игнацио.
Не встретилось ему недостатка и в благородных свидетелях и старая ханжа подписала полуживою рукой нищету и рабство злополучному младенцу, для обогащения ненасытных святош… А между тем обворованный Муцио тихо почивал в своей комнатке, еще разубранной материнскою рукой, в позолоченной своей колыбельке. Сирота-ребенок не знал, что на завтра ему придется проснуться нищим.
Читать дальше