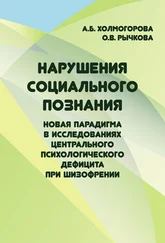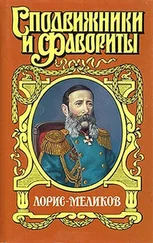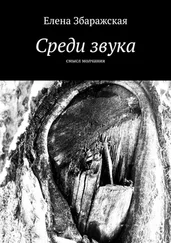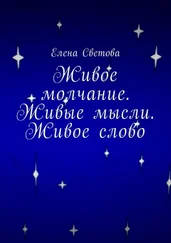«К тридцати годам, в пору цветения молодости, я, как это бывает со всеми, окончательно установил для себя те взгляды на людей и жизнь, которые считал наиболее верными и естественными. Выводы, сделанные мною, могли равно принадлежать как гимназисту, так и философу. О человеческой подлости, эгоизме, мелочности, силе похоти, тщеславия и страха.
Я увидел, что революция совершенно не изменила людей…
Мир воображаемый и мир реальный. Смотря как воображать мир. Мир коммунистического воображения и человек, гибнущий за этот мир. И мир воображаемый – индивидуалистическое искусство».
И дальше:
«Литература закончилась в 1931 году.
Я пристрастился к алкоголю».
К тем же временам относится запись, начинающаяся со слов «Я не хочу быть писателем» и завершающаяся мыслью о пуле в лоб.
Мысли Максимилиана Волошина в те же дни:
«7/VII 1931 г.
Вчера за работой вспомнил уговоры Маруси: «Давай повесимся». И невольно почувствовал всю правоту этого стремления. Претит только обстановка – декорум самоубийства. Смерть, исчезновение – не страшны. Но как это будет принято оставшимися и друзьями – эта мысль очень неприятна. Неприятны и прецеденты (Маяковский, Есенин). Лучше «расстреляться» по примеру Гумилева. Это так просто: написать несколько стихотворений о текущем. О России по существу. Они быстро распространятся в рукописях. Все-таки это лучше, чем банальное «последнее письмо» с обращением к правительству или друзьям. И писать обо мне при этих условиях не будут. Разве через 25 лет?..»
Больше, чем различие в выборе средств пассивного самоубийства, поражает сходство в отчаянии. А ведь время-то еще, по хлесткому слову Анны Ахматовой, вегетарианское, и у живого пока Мейерхольда ставится спектакль по пьесе «Список благодеяний». Интересная пьеса. Список преступлений, в первозданном виде до нас не дошедший, звучит убедительней лозунгового списка благодеяний, зачитанного парижскими безработными на демонстрации. Гибель на этой демонстрации артистки Гончаровой избавляет ее от репрессий на родине. Ведь она уже осуждена, и осуждена, как водится, пресловутой тройкой. Неслучайно советских представителей в Париже именно трое, а цена их уговора – в Москве разберутся – и автору, и зрителям известна.
Собственно, в этом самом 1931 году и начинается дневник. Авторская ошибка в датировке (30 января 1930-го) – скорее всего, чисто автоматическая: в январе рука еще не привыкла к новому году. И уже в шестой строке все становится на свои места: «Зимой 1931 он (Мейерхольд) стал над ней (постановкой «Списка благодеяний») работать».
Жизнь раздвоилась. Можно сколько угодно говорить о гибели писателя, но пока из-под его пера выходит хоть строчка, он жив. А если в строчке хоть капля поэзии – он бессмертен. И строчки его рано или поздно явят миру его торжество. На поверхности социалистической действительности был кающийся интеллигент наподобие кролика, уверяющего удава в своей лояльности и готового, если получится, отказаться от кроличьей своей сути – длинных чутких ушей, врожденного вегетарианства – чего угодно. В этой маске он предстал на Первом Всесоюзном съезде писателей.
В ту пору многие интеллигенты надели маски, тайно заботясь о том, чтобы не прирастали к лицу. Пастернак прикинулся небожителем, абсолютно не ведающим, что творится за окном, а зоркий глаз тонко улавливал мир материальный, о чем этот мир с изумлением узнает десятилетия спустя. Пришвин обратился разве что не в лешего, и только потаенные записные книжки раскрывают подлинный мир этого мудрого, как змий, художника.
Маска кролика могла спасти от репрессий, но не спасала от содействия преступлениям власти – подписей под письмами трудящихся пера с расстрельными требованиями, а то и написания статей по случаю чьего-нибудь погрома. Здесь маска алкоголика, человека несерьезного и пустого болтуна, казалась надежнее. Но цена оказалась дорога: пока заботился о дистанции от маски кролика, маска алкоголика приросла к лицу.
Русскую литературу со времен Ломоносова пьющим писателем не удивишь. Публичные рассуждения об алкоголизме крупного литератора отдают подвигом Хама, это дело черни, сующей нос в дневники, чтобы увидеть гения в унижении. Пушкин ответил любопытствующим: врете, мал и мерзок, но не как вы, иначе. Писатель оставляет духовное наследие – его прижизненное пьянство, прелюбодейство, азартная игра, если сам он об этом не написал, умирают в тот день, когда умерло его тело. И не будем об этом. Но случай с Юрием Олешей – другой. Это был сознательный уход из «активной», т. е. поверхностной, литературной жизни. От него через Николая Глазкова с его знаменитым «Я на мир взираю из-под столика» пошла традиция, нашедшая абсолютное воплощение в жизни и творчестве (тут они неразделимы) Венедикта Ерофеева. Можно не разделять этой саморазрушительной идеологии, но приходится признать ее фактом русской литературы эпохи социализма.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
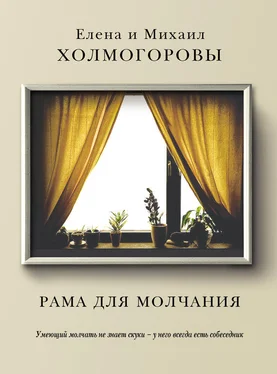

![Андрей Бесквитов - Обет молчания [СИ]](/books/29385/andrej-beskvitov-obet-molchaniya-si-thumb.webp)