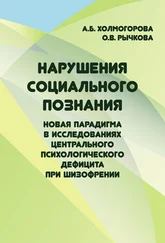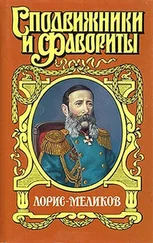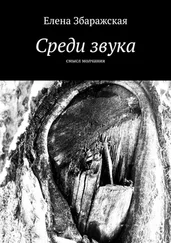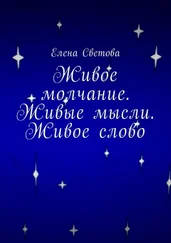После смерти Олешу стали подзабывать, пять лет уже прошло, и вдруг – «Ни дня без строчки». И писатель, похороненный знатоками, воскрес. Но упрямые знатоки не унялись. Аркадий Белинков торжественно объявил гражданские похороны писателя, выпустив на Западе книгу «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Другой знаток заявил о распаде личности пьющего писателя. Да что же это за гибель, что за распад, если через сорок и пятьдесят лет после смерти писателя, уже в другие эпохи, его имя тревожит, взывает к размышлениям и одаривает то глубочайшей печалью, живым чувством сострадания, то восторгом перед роскошной фразой? Но аргументы знатоков кажутся убедительными, они как бы лежат посмертной тенью под внушительной фигурой писателя. Нет, словами тут не отделаешься – «высплюсь, чем свет перечту и пойму».
Перечитываю. Восхищаюсь «Завистью», рассказами «Лиомпа», «Цепь», «Любовь». Посдержаннее принимаю романтических «Трех толстяков». Еще сдержаннее – подпорченную все примиряющей концовкой «Вишневую косточку» и несколько других. Ошеломленный успехом «Зависти», писатель невольно тянется к самоповтору. «Стадион в Одессе», «Комсорг» просто разочаровывают. Так мог бы написать какой-нибудь Павленко или Горбатов – будто не тонким пером, а малярной кистью писано. За все сороковые написано три-четыре рассказа – «Туркмен», вымученная «Иволга», худосочный рассказец к пушкинскому юбилею «Друзья». И все. Жизнь через одиннадцать лет кончится – ни одного цельного, завершенного произведения. Отрицательный опыт – тоже опыт, но впечатление такое, что опыта отрицательного Юрий Карлович накопил неизмеримо больше положительного. И вроде как правы его могильщики – гибель, распад…
А что тут удивительного? Вся страна на протяжении ХХ века только и делала, что копила отрицательный опыт.
Итак, перед нами интеллигент, окончивший с золотой медалью Ришельевскую гимназию в Одессе, поступивший в университет и обдумывающий подробности будущего житья присяжного поверенного и поэта. Но этого житья, к которому он по инерции десятилетий приготовился, ему не дадут. Будущий присяжный поверенный раздосадован, будущий поэт – в слепом восторге: ему не хотелось быть, как все, не хотелось взбираться по крутой лестнице карьерного успеха, о чем он на излете очарования напишет рассказ «Человеческий материал». Поэт раскрыл объятья призраку коммунизма, семьдесят лет бродившему без толку по Европе, вытолканному взашей из Парижа и забредшему наконец в страну, которую, как высказался однажды Отто фон Бисмарк, не жалко. Образ художественный у тех же Маркса с Энгельсом точнее политических теорий. Раскрытые объятья пусты – призрак ведь, а новая жизнь, пообещавшая молочные реки и кисельные берега, а к ним еще и нового человека сотворить, уже заявляет, что интеллигент зря раскрывал объятья: он ей попросту не нужен. А может быть, и вреден. Это угрожающее «может быть» сопровождает его всю жизнь и обрекает на вечный страх.
Страх – чувство позорное, недостойное порядочного человека, во все века моралисты осуждали его и правильно, наверное, делали. Век девятнадцатый, «золотой», уже после Пушкина выдвинул постулат, на мой взгляд, сомнительный: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Век Серебряный истекал клюквенным соком, не догадываясь поначалу, что это вовсе не бутафорская краска, а реальная человеческая кровь, и прольется оный сок из тела Николая Гумилева, Владимира Маяковского, Вильгельма Зоргенфрея, Осипа Мандельштама. И сам собою встал вопрос покруче гражданского: обязан ли поэт быть героем? Собственно, знатоки и судили Юрия Олешу не как писателя, а как героя и постановили: обязан. А раз не герой – вот тебе: сдача и гибель, а книга твоя – книга распада.
А все же не дело писателя геройствовать. Его дело – слово.
Вот к слову Юрия Олеши и обратимся.
Воспоминания Юрия Олеши о том, как выступал на вечере поэзии в Одессе Максимилиан Волошин, несколько насмешливы. В 1920 году Олеша был молод и к старым символистам относился с долей юношеского революционерского превосходства: в ту пору советская власть развернула перед ним полный список благодеяний, а преступления по легкомыслию принимались как неизбежные нравственные издержки в процессе борьбы за утверждение провозглашенных благодеяний, и их список еще не набрасывался. Он все ждал, когда новый строй породит нового человека – умного, красивого и до гениальности талантливого. Не дождался. В 1931 году записывает:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
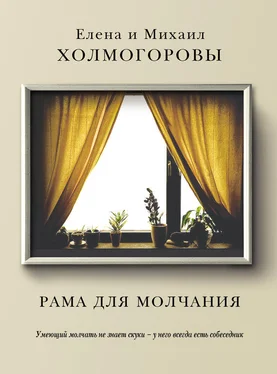

![Андрей Бесквитов - Обет молчания [СИ]](/books/29385/andrej-beskvitov-obet-molchaniya-si-thumb.webp)