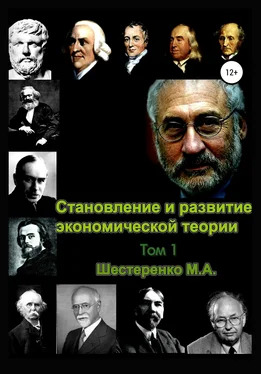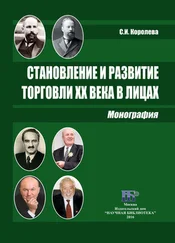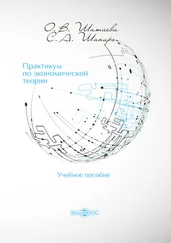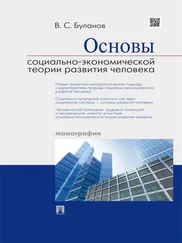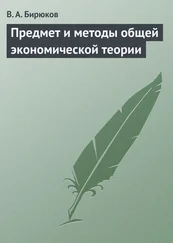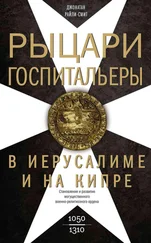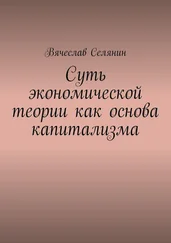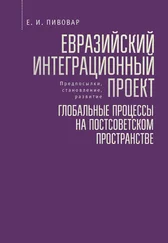Природа общественного строя.Аристотель, несмотря на то, что был любимым учеником Платона, отверг концепцию идеального государства своего учителя. Вместо этого, он отдавал предпочтение смешанной экономике, которая допускала больше воздействия экономических стимулов. В отличие от Платона, Аристотель отстаивал право на частную собственность для всех классов, на том основании, что это способствует экономической эффективности, служит источником общественного спокойствия и поощряет развитие моральных качеств.
В дни Аристотеля, афинское государство функционировало в большой степени как распределительная экономика. Богатство и привилегии распределялись в соответствии с обычаями, традицией и государственными директивами. Среди вещей, подлежащих распределению, были: всякого рода почести, бесплатное питание, общественные увеселения, рационы зерна, прибыли от серебряных рудников в Лориуме, а также выплаты многим гражданам за присутствие на судах в качестве присяжных заседателей и за присутствие на общественных собраниях. На жаргоне современной социальной теории, эти права были прерогативой каждого гражданина Греции. Аристотель считал эти права защитой от бесконтрольной демократии. Таким образом, главным предметом его интереса был вопрос о справедливости распределения разного рода благ.
Природа торговли.Именно на этом фоне необходимо оценивать аристотелевский анализ двустороннего обмена. Он рассматривал обмен как двусторонний процесс, при котором, в результате обмена, обе участвующие стороны обогатятся. Побуждение к обмену существует в том случае, когда каждая из сторон потенциальной торговой операции имеет некий избыток, с которым участники торговли охотно расстанутся в обмен на товары друг друга. Поэтому, обмен построен на понятии обоюдности. С этого пункта, анализ принимает направление, скорее, судейское, а не коммерческое. Этот факт является первостепенным в следующем отрывке, в котором Аристотель анализирует бартерную торговлю:
Пропорциональное воздаяние получается при перекрестном попарном объединении. Так, например, строитель дома будет A, башмачник – B, дом – Y, башмаки – S. В этом случае строителю нужно приобретать [часть] работы этого башмачника, а свою собственную передавать ему.
Если сначала имеется пропорциональное равенство [работы], а затем произошла расплата, получится то, что называется [правосудным в смысле справедливого равенства]. А если нет, то имеет место неравенство, и [взаимоотношения] не поддерживаются; ничто ведь не мешает работе одного из двух быть лучше, чем работа другого, а между тем эти [работы] должны быть уравнены. Так обстоит дело и с другими искусствами: они были бы уничтожены, если бы, производя, не производили [2] Нечто.
определенного количества и качества, а получая это, не получали бы [как раз] такое количество и качество. Ведь [общественные] взаимоотношения возникают не тогда, когда есть два врача, а когда есть [скажем], врач и земледелец и вообще разные и неравные [стороны], а их-то и нужно приравнять.
Поэтому все, что участвует в обмене, должно быть каким-то образом сопоставимо. Для этого появилась монета и служит в известном смысле посредницей, ибо ею все измеряется, а значит, как преизбыток, так и недостаток, и тем самым сколько башмаков равно дому или еде. Соответственно отношения строителя дома к башмачнику должны отвечать отношению определенного количества башмаков к дому или к еде. А если этого нет, не будет ни обмена, ни [общественных] взаимоотношений. Не будет же этого, если [обмениваемые вещи] не будут в каком-то смысле равны. Поэтому, как и было сказано выше, все должно измеряться чем-то одним. Поистине такой мерой является потребность, которая все связывает вместе, ибо, не будь у людей ни в чем нужды или нуждайся они по-разному, тогда либо не будет обмена, либо он будет не таким, [т. е. не справедливым]; и, словно замена потребности, по общему уговору появилась монета; оттого и имя ей «номисма», что она существует не по природе, а по установлению (nomoi) и в нашей власти изменить ее или вывести из употребления.
Итак, расплата будет иметь место, когда справедливое равенство установлено так, чтобы земледелец относился к башмачнику, как работа башмачника к работе земледельца («Никомахова этика).
Этот отрывок плюс другие принадлежащие Аристотелю замечания на эту тему, стали предметом дотошного и повторяющегося рассмотрения для писателей-схоластов средневековья, в течение которого западная мысль осторожно, крошечными шагами продвигалась к осмыслению того, что есть предложение и спрос. Аристотелевский анализ, из-за того, что смысл его был туманным, и он не был сфокусирован на изучении рынка, не слишком приближает нас к анализу рыночной цены. Не понятно ни на какой тип пропорции намекает Аристотель в приведённом выше отрывке, ни что означает взаимность (или даже равенство) в этом контексте.
Читать дальше