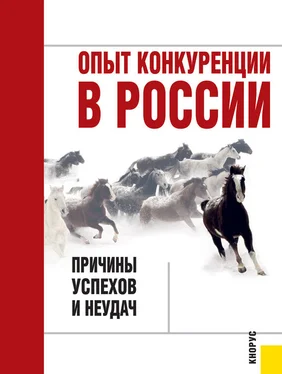В крохотной Швейцарии расположены сразу три ведущих мировых фармацевтических фирмы. А в очень похожих на нее по уровню развития и менталитету Швеции и Нидерландах почему-то не появилось ни одной значимой фирмы данной отрасли. Аналогичным образом созвездие наиболее конкурентоспособных автомобильных фирм некогда сложилось в Японии. Позже лидерство переместилось в Южную Корею. Но ни там, ни там не возникло ни одной авиационной фирмы мирового значения. Причем очевидно, что «списать» этот факт на слишком большое отставание Японии или Кореи от лидирующих в авиастроении стран нельзя: куда менее развитая Бразилия, например, этот разрыв успешно преодолела.
Знаменитые компьютерные фирмы преимущественно происходят из США, а гиганты аудио– и видеотехники – из Японии и Юго-Восточной Азии. Швеция породила несколько очень мощных машиностроительных компаний, но ни одной химической. В Германии расположены три крупнейшие химические фирмы и оба мировых лидера массового производства дорогих автомобилей, а вот сильных немецких компьютерных фирм нет.
Эти факты на первый взгляд противоречат природе конкурентной борьбы. Ведь конкуренция – это стремление получить то, чего в тот же самый момент добивается кто-то другой [2]. То есть сами условия игры, казалось бы, диктуют, что победа одного автоматически оборачивается поражением другого. Если заказ достался кому-то, значит, все остальные его безвозвратно потеряли. Так что рядом с компанией, достигшей выдающегося уровня конкурентоспособности, логичнее ожидать пустоту (соперники безжалостно вытеснены), чем целое созвездие не менее сильных фирм.
Рост конкурентоспособности лидера, для его соперников в первую очередь, действительно означает угрозу потери рынка и банкротства. Однако, в этом есть не только разрушительная, но и созидательная сторона. М. Портер обратил внимание, что если хотя бы части фирм удается справиться с ситуацией (а тотальное вытеснение всех конкурентов обычно невозможно), то это означает, что они приобрели опыт успешного противостояния сильнейшей фирме, создали продукты, конкурентоспособные даже в сравнении с ее совершенными изделиями. Тем самым закладывается фундамент успехов целого куста тесно взаимодействующих компаний. Ведь тому, кто нейтрализовал конкурентные преимущества сильного соперника (скопировал, нашел асимметричный ответ и т. п.), легко затем теснить соперников слабых.
1.3. Победоносные кластеры
Благодаря обмену конкурентными ударами, фирмы проходят внутри кластера процесс взаимной закалки и одновременно притирки. В конечном итоге они становятся носителями одной и той же «коммерческой идеологии». Опираясь на нее, участники кластера на новых рынках легко побеждают «аборигенов», непривычных к соответствующим приемам конкуренции. Поэтому-то ожесточенная конкуренция фирм кластера на «родном» рынке затем обычно выливается в их совместную экспансию вовне: на общенациональный уровень, если кластер возник в одном регионе, или даже за пределы страны, когда взращенные внутри кластера конкурентные преимущества оказались значимыми в международном масштабе.
Так, успех любой из японских автомобильных фирм на мировом рынке в годы их наивысшего расцвета строился по одной и той же формуле: «дешевизна + безотказность автомобиля». Собственно говоря, никакого чуда не было: дешевизна являлась вынужденным условием, соответствовавшим низкой платежеспособности японского населения того периода, когда в этой стране формировался автомобилестроительный кластер (50—60-е гг. ХХ в.). Японский автомобиль должен был иметь низкую цену, чтобы у него были хоть какие-то шансы на реализацию внутри страны. А высокая квалификация и непревзойденная трудовая мораль японских рабочих задали другой вектор конкуренции: одинаково дешевые автомобили разных производителей наперегонки становились все более и более качественными, в первую очередь по параметрам точности сборки.
После окончательного вызревания кластера (в 70—80-е гг. ХХ в.) машины, обладающие такими свойствами, массово пошли на экспорт. Для иностранных, в первую очередь для американских, конкурентов появление японских автомобилей стало подлинным шоком. Никто не был готов предложить хотя бы примерно столь же надежные машины по баснословно низким ценам.
Обратим внимание на то, что само понимание качества японскими автомобилестроителями было достаточно узким, сводясь преимущественно к безотказности работы машины. Дизайнерские или конструктивные изыски, характерные, скажем, для европейских машин, напротив, не вписывались в тогдашнюю японскую модель качества с ее жесткими ограничениями по издержкам. То есть в свои лучшие годы теснивший конкурентов по всему миру японский автомобиль далеко не был идеальным. И это очень типично для кластеров вообще: конкурентные преимущества, возникающие в результате взаимной тренировки фирм, отнюдь не универсальны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу