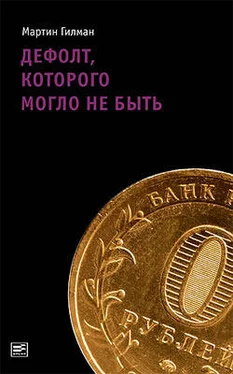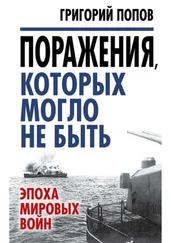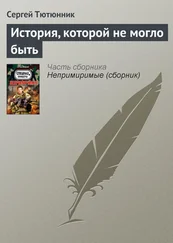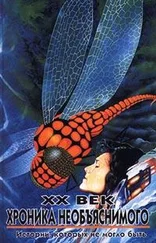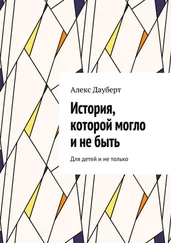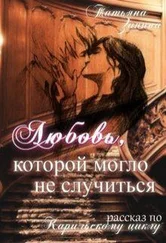Все эти реформы пользуются безусловной поддержкой западных деловых кругов, но во многих случаях непопулярны среди населения. Скажем, объективно необходимая реформа ЖКХ привела к тому, что расходы рядовой семьи на коммунальные услуги и электричество, по оценкам, в 2006 году выросли в четыре раза, и в результате многие семьи с низкими доходами оказались за чертой бедности. Очевидно, что проводить такую реформу нужно было параллельно с реформой системы социальной защиты, где, в свою очередь, возникло еще больше проблем. В соответствии с новым Трудовым кодексом у работодателей появились невиданные ранее права в определении условий труда и соответственно потенциальные возможности для самых разных злоупотреблений. А проект нового Земельного кодекса столкнулся с таким решительным сопротивлением в Думе со стороны коммунистов и аграриев, что пришлось пойти на исключения в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Сталкивается с политическим и социальным противодействием и финансовая реформа, поскольку регулируемая современными нормативными требованиями капиталистическая банковская система не поддается произвольному использованию ее для подпитки нерентабельных, но социально значимых в местных условиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий. И даже знаменитый единый подоходный налог в 13% обернулся повышением для лиц с самыми низкими доходами, которые ранее платили 12%.
Медведев, Путин и их советники хорошо понимали и понимают, какого масштаба социальное сопротивление могут вызвать предлагаемые ими реформы. Пережив период полного экономического разлада при Ельцине, россияне вряд ли воспримут какие-либо доводы в пользу очередного ущемления их уровня жизни во имя «рыночных реформ». Если же власти тем не менее попытаются настоять на своем, доверие к ним окажется под угрозой, в результате чего у них неизбежно пропадет готовность добиваться необходимых перемен и в других областях, например в корпоративной культуре, проблемы которой мешают развитию бизнеса.
По состоянию на конец 2008 года представляется, что перед страной стоят три основные экономические проблемы, каждая из которых имеет свой временной горизонт.
В ближайшей перспективе наибольшую озабоченность вызывает начавшееся в первой половине 2008 года ускорение инфляции. Оно тем более пагубно, что инфляция в России и так была на довольно высоком уровне, а в оставшейся без руля и ветрил мировой экономике она, как глобальное явление, становится откровенно опасной. Проблема в том, что США, как эмитент главной международной валюты, на практике положили эти свои обязанности на алтарь внутренней политики и краткосрочных интересов. В Америке, крупнейшей в мире стране-заемщике, переоценка рисков катастрофически сказывается на стоимости и так уже переоцененных активов, что, в свою очередь, влечет почти паническую реакцию американских властей, ищущих способы предотвратить начало полного краха. Из-за принимаемых ими мер появляется дополнительная ликвидность, оказывающая инфляционное давление уже во всем мире. Понятно, что в одиночку России с этим давлением не совладать.
В среднесрочном плане многое будет зависеть от того, удастся ли России обособиться от замедления экономической активности в странах – членах ОЭСР. Наиболее болезненным для российской экономики стало бы существенное снижение цен на энергоносители. Но резкое падение до опасных уровней – например, продолжительный период с ценами ниже 55 долларов за баррель, который прогнозировала «Тройка Диалог» в начале 2008 года, – выглядит нереалистичным даже в случае полномасштабной рецессии в США.
Наконец, в самом долгосрочном плане важнейшим экономическим вопросом является выбор модели развития и способа поддержания темпов роста. Почти все, что говорит президент Медведев на тему экономической политики, весьма здраво. Но можно ли рассчитывать на что-то большее, чем просто слова? В благоприятном варианте руководители страны действительно имеют в виду то, о чем говорят, и со временем, пусть и, как обычно, немного путано, реализуют свои идеи. Это вполне вероятный вариант развития событий, но он не гарантирован.
В качестве альтернативы я вижу некую «японскую политическую модель». В стране у власти долгое время будет находиться одна и та же партия, внутри которой мощные группы интересов делят между собой министерства, контракты и даже целые отрасли. Такой была ситуация в Японии в 1960-х и 1970-х годах при ЛДП, а также в Австрии или в Мексике вплоть до конца прошлого столетия. Этот сценарий, очевидно, не так хорош.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу