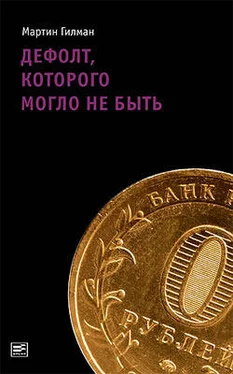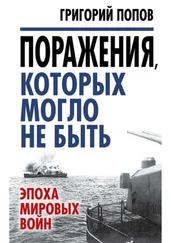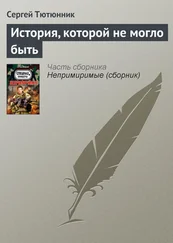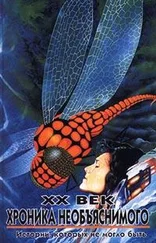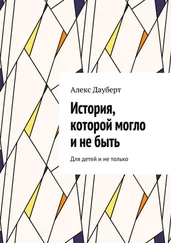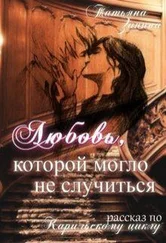Спустя три долгих года, прошедших со времени бурных заседаний в Гонконге, МВФ вновь провел свое годовое собрание вне Вашингтона, на сей раз в Праге. Российскую делегацию возглавлял Алексей Кудрин. После беспорядков во время конференции ВТО в Сиэтле в декабре 1999 года ажиотаж в прессе по поводу крупных международных экономических совещаний, проведение демонстраций и попытки помешать их нормальной работе были уже обычным делом, и Прага в этом смысле не стала исключением. Демонстранты едва ли не контролировали город, но главной их целью был штурм Конгресс-центра, где проходили совещания МВФ и Всемирного банка. Под конец члены российской делегации (среди них были Кудрин, Игнатьев, Илларионов и другие), спешившие на московский рейс, не стали дожидаться организованной эвакуации и решили покинуть Конгресс-центр самостоятельно. Они вышли за охраняемый периметр без сопровождения полиции и очень быстро об этом пожалели, оставшись наедине с мощной толпой вооруженных чем попало антиглобалистов. Протестанты в черных масках, скрывающих лица, первым набросились на Кудрина, как будто угадав в нем главу делегации. Но больше всех досталось его верному пресс-секретарю Геннадию Ежову, которому разбили голову брошенной бутылкой. Так или иначе, российским делегатам пришлось срочно ретироваться за спины полиции.
До зимы продолжалось вялое и в основном безрезультатное обсуждение денежно-кредитной политики и эффективной стерилизации валютных притоков. Россия тем временем вполне неплохо справлялась с давлением сильного платежного баланса. Сотрудники МВФ правильно прогнозировали, что такое давление будет не ослабевать, а усиливаться, но правы были и Игнатьев с Парамоновой в том, что бюджетный профицит гораздо выше ожидаемого и возросший спрос на наличные рубли это давление помогали снижать. Однако больше всего изначальный прогноз правительства (которому весьма нравился и прогноз фонда о разрыве в 3 млрд долларов) спасало то, что отток частных капиталов из страны не только продолжился (вот и вся цена российскому валютному контролю), но и значительно превзошел ожидания. То есть реальную стерилизацию осуществляли не ЦБ с Минфином, а вывозивший свои деньги за границу российский частный сектор.
Нерешенным на переговорах с фондом оставался также вопрос о реструктуризации банковской системы. Как справедливо отмечали российские власти, со времен августовского краха 1998 года и звучавших тогда мрачных прогнозов о долгосрочном ущербе для системы расчетов и даже о жизнеспособности Сбербанка акценты в этой сфере сильно сместились. Сегодня очевидно, что тогда слишком много внимания уделялось небольшому кругу крупных московских банков, словно они отражали состояние всех остальных банков в стране. К тому же, следует признать, что, исходя из опыта некоторых других стран Азии, Латинской Америки и Восточной Европы, имелась тенденция вообще сильно преувеличивать значение российской банковской системы.
Собственно банковской системы в обычном смысле в России по-настоящему не было. Еще до кризиса, в середине 1998 года, денежная масса (агрегат М2) за вычетом наличных на руках у населения и вкладов в Сбербанке составляла всего 3% ВВП. Вряд ли она могла хоть сколько-нибудь значимо влиять на макроэкономические показатели. Так что в кризисных условиях серьезная проблема российской экономики – отсутствие у населения доверия к национальной валюте – спасла, как это ни странно, положение, поскольку большинство населения, особенно вне Москвы, от прямых последствий экономического кризиса никак не пострадало [247] .
В качестве иллюстрации того, о чем идет речь, я часто привожу следующую историю. Как-то главный редактор одного российского еженедельника спросил меня, каких именно действий добивался от России МВФ. Я ему ответил: «Понимаете, вы ведь относитесь к российскому среднему классу и хотите, чтобы ваша страна была безопасной и процветающей, таким местом, где вам с вашей семьей было бы хорошо жить. Скажите мне, какую политику должны проводить ваше правительство и центральный банк, чтобы вы согласились получать зарплату в рублях (а не в долларах, как тогда было повсеместно принято), хранить ваши деньги в российском банке и вкладывать ваши сбережения в российские активы? Если вы мне объясните, что это за политика, то она, скорее всего, окажется очень близка к той, за которую выступает МВФ». Скептичный, как и все русские, Сергей ответил вполне типично: «Что бы они ни делали, я им все равно не верю. Это вас, доверчивых иностранцев, можно легко убедить…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу