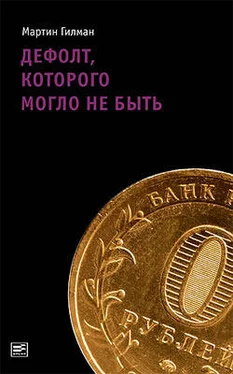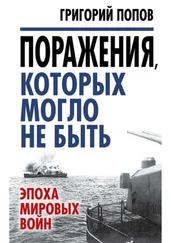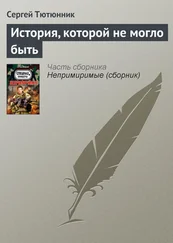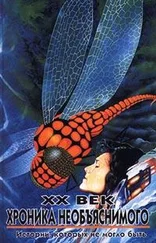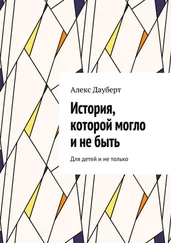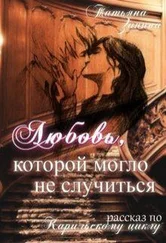Относительно первоочередных задач в экономической области у МВФ и российских властей начали появляться расхождения во взглядах. В целом, обе стороны имели одинаковое представление о том, какую конкретно макроэкономическую политику необходимо проводить, тут расхождений во взглядах фактически не было. Разногласия возникали из-за того, что члены Совета директоров МВФ категорически настаивали на решении в первую очередь давно «зависших» вопросов, связанных с прозрачностью Центрального банка, управлением резервами и выходом ЦБ из капитала коммерческих банков.
Я как-то спросил Набиуллину, бывшую в то время первым заместителем министра экономического развития и отвечавшую за структурные реформы, что она по этому поводу думает. Она ответила, что те меры по обеспечению прозрачности в работе ЦБ, которые сочтут разумными, несомненно, будут приняты и потому нет необходимости включать их в правительственную программу. В отношении налогово-бюджетных вопросов ключевыми, с ее точки зрения, были Налоговый кодекс и проект бюджета на 2001 год; она ожидала, что результаты работы по этим направлениям МВФ оценит удовлетворительно [243] .
Более сложной ей представлялась ситуация в банковском секторе и в отношении неплатежей. Что касается банков, то сами сотрудники МВФ стали уделять больше внимания не реструктуризации сектора, а оперативным вопросам, без решения которых мог случиться очередной банковский кризис (в частности, темпам перехода на МСФО, установлению требований к минимальному размеру капитала). Набиуллина отметила, что в центре дискуссии теперь иные вопросы. Вьюгин тоже говорил мне тогда, что серьезно рассматривалась возможность принятия дополнительных мер, призванных ускорить банковскую реформу. Обсуждалась идея разрешить ЦБ закрывать банки без права апелляции в суде, отменить обязательную продажу валютной выручки и ослабить регулирование рынка капиталов [244] .
Что же касается неплатежей, то, по словам Набиуллиной, ситуация изменилась (это признавал и Всемирный банк): снизилась острота самой проблемы. К тому же на тот момент уже было признано, что неплатежи являлись следствием ошибок в исполнении бюджета и недостаточной бюджетной дисциплины и что для исправления положения требовался ряд микроэкономических мер (в том числе, как настаивал Всемирный банк, выработка конкретной программы реструктуризации «Газпрома»).
Набиуллина, посоветовавшись с Грефом, спросила, как сотрудники фонда оценивают содержавшиеся в правительственной программе структурные вопросы и могут ли они быть поддержаны фондом в таком виде [245] . Она предположила, что если эти планы удовлетворительны, то МВФ мог бы взглянуть на заботящие его вопросы в новом свете, с учетом устойчиво положительных макроэкономических результатов. Греф и Набиуллина также интересовались, каким образом инициированная новым директором-распорядителем Хорстом Келером дискуссия внутри МВФ об усилении внимания к структурным реформам могла сказаться на отношении фонда к подготовке новой программы. Но главное, Набиуллина призывала к тому, чтобы сотрудники МВФ серьезно отнеслись к собственной программе правительства и попытались взять ее за основу в своей работе – тем более, что и Фишер говорил Путину о пользе появления у российской стороны самостоятельно разработанного плана действий.
Тесное взаимодействие с фондом продолжалось, причем Всемирный банк, как и полагается, полностью взял на себя координацию в сфере структурных реформ. Но прогресс все равно давался с трудом. Причиной тому была растущая озабоченность в МВФ по поводу назревавших макроэкономических проблем, а также различия в отношении российских властей и фонда (а также Всемирного банка) к выбору приоритетов в структурной политике. МВФ хотел закрыть уже давно обсуждавшиеся вопросы, касавшиеся банковского сектора, естественных монополий, прозрачности в самом широком смысле. Власти же считали, что при последовательном подходе в первую очередь необходимо было заняться дерегулированием предпринимательства, налоговой и административной реформами. Так что в сфере структурных реформ вести обсуждение, а уж тем более договариваться можно было лишь по очень ограниченному кругу вопросов.
Наконец 25 августа, более чем через год после дефолта Лондонский клуб кредиторов завершил конвертацию долга по ГКО/ОФЗ на общую сумму 32 млрд долларов в новые еврооблигации на сумму 21 млрд долларов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу