Кто виноват, или Две идейные программы
О чем этот фильм? Не закрепленные должным образом товарные платформы выкатываются навстречу пассажирскому поезду. Помощник машиниста успевает соскочить. А машинист не выпрыгивает, пытается тормозить, тем самым спасая от гибели многих людей, но в результате погибает сам. Автоматически заводится уголовное дело. Приехавший следователь Ермаков обнаруживает «клубок бездействий» (разгильдяйства и бесхозяйственности). Вскоре оказывается, что в этой истории все нарушали принятые правила. Датчик на тепловозе неисправен, в результате машинист не знает фактическую скорость, с которой движется состав; начальник депо выпускает неисправный тепловоз на линию; путейский рабочий не ставит требуемый башмак под колесную пару. Точнее, вместо двух башмаков (по официальной норме) ставит один (как всегда ставили). Все делается кое-как, наполовину. И ясно, что этот случай совсем не исключительный, скорее, он проявление обычного и привычного положения дел [89] История не выдуманная, а, скорее, пророческая. Буквально аналогичный случай с меньшим количеством башмаков, поставленных кондукторами под колесные пары, произошел 31 мая 1996 г. (через 14 лет после выхода фильма) на перегоне Болотное – Тайга около станции Литвиново Кемеровской области. В результате аварии погибло 19 человек, ранено 59 (информация «КиноПоиска»).
.
Следователь, как положено, пытается найти виновных и доказать их виновность. Найти их оказывается легко, а вот с доказательствами возникает серьезная проблема. Следователь сталкивается с местным сообществом захолустного городка, оказывающим пассивное (чаще) или даже активное (реже) сопротивление следствию, явно сочувствуя нарушителям. Все просят Ермакова не копаться в этом деле и скорее уехать.
В гостинице принципиальный Следователь сталкивается с не столь принципиальным Журналистом (в исполнении Солоницына), который умен, в чем-то циничен, судя по пиджаку и рубашкам, вполне благополучен (в советское время говаривали «умеет жить»). Он пишет статью о героизме погибшего машиниста, при этом намеренно искажает факты. И любопытно, что делает он это по личному порыву, не из какого-то примитивного эгоизма и не по приказу сверху. Он хочет хотя бы как-то помочь местным людям или, по крайней мере, не осложнять их и без того несладкую жизнь. Он говорит следователю: хватит жертв, дайте людям пожить спокойно. Они работают, как умеют – да, криво и косо, но по-другому их работать не научили, и это не их вина.
Журналист – прекрасный представитель отряда советских идеологов, которые были подлинными мастерами даже не столько двоемыслия в стиле Джорджа Оруэлла, сколько перекрашивания и реинтерпретации. Они привычно превращали нужду в добродетель, например, представляли бесхозяйственность как героизм. Нарушители оказывались пострадавшими – в итоге погибший получал памятник и добрую память, вдове выдавали пособие, а старухе-матери пенсию. Такие идеологи пытались, иногда безуспешно, обратить энергию развала и энтропии в склеивающую силу, пусть даже склейка шла «на хлебный мякиш». В итоге в советское время работала мощная фабрика, производящая мифологических героев. Так и в эпизоде нашего фильма местная учительница, рассказывая о школьном прошлом погибшего машиниста, конструирует миф о мальчике, который всю жизнь только и делал, что готовился к подвигу.
В лице главных героев сталкиваются две конфликтующие идейные программы. Первая: «Всех не арестуешь, а надо бы». И вторая: «Зачем мучить людей, они живут, как умеют». Поэтому между главными героями моментально возникают интуитивное взаимное подозрение и неприязнь. Они по-честному пытаются установить контакт, пробуют навести мосты через недоверие с помощью гарантированного советского средства – совместного распития алкоголя. Но даже это испытанное средство не помогает.
Кто из них прав? И можем ли мы кого-то осуждать? Это лишь один из вопросов, за которым скрывается глубокая противоречивость советского прошлого.
Локальное единство партии и народа
Ясно, что своими действиями (весьма формальными и «правильными») следователь нарушает издавна сложившийся порядок. Что это за порядок? Здесь не работает примитивная схема классового общества, в которой комбюрократы угнетают народ, а народ терпит, пряча фигу в кармане, – дескать, нам говорят одно, мы делаем другое, т. е. все против режима, но скрывают свое подлинное отношение. В реальной жизни, как правило, не было никакого противостояния режиму, фиги в кармане тоже часто не было. И тем более не было откровенной классовой ненависти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


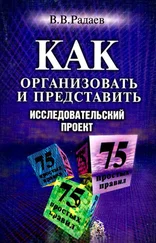

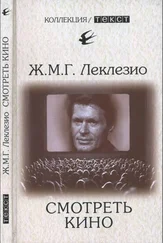


![Данила Кузнецов - Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра [litres]](/books/415652/danila-kuznecov-yazyk-kino-kak-ponimat-kino-i-pol-thumb.webp)




